Философская антропология как феноменология жизненного опыта
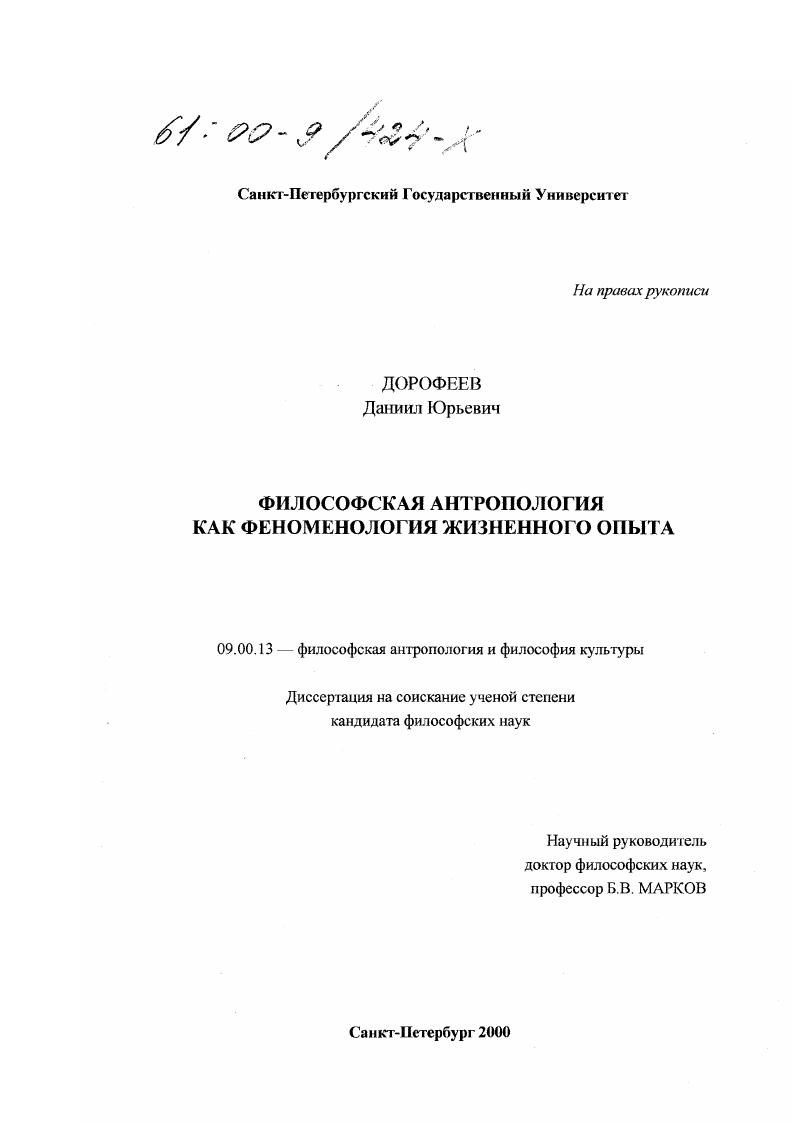
- Автор:
Дорофеев, Даниил Юрьевич
- Шифр специальности:
09.00.13
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2000
- Место защиты:
Санкт-Петербург
- Количество страниц:
195 с.
Стоимость:
700 р.499 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
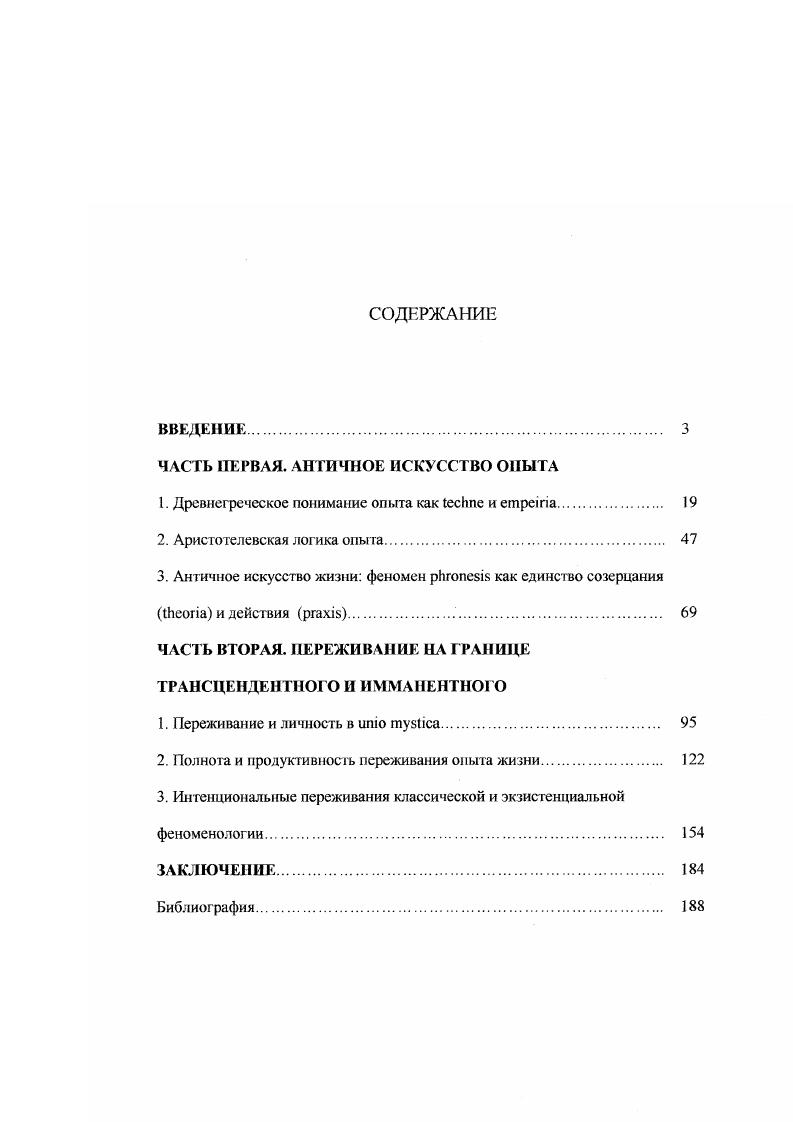
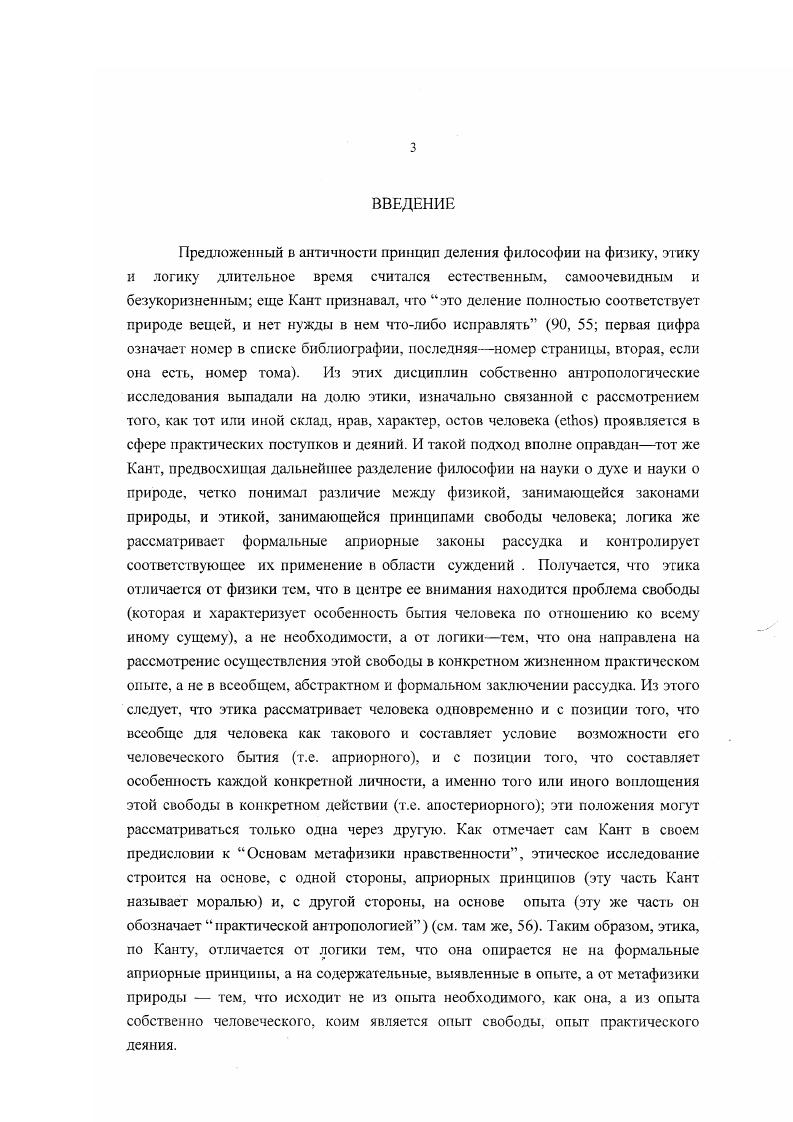
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО ОПЫТА
1. Древнегреческое понимание опыта как techne и empeiria
2. Аристотелевская логика опыта
3. Ан тичное искусство жизни: феномен phronesis как единство созерцания
(theoria) и действия (praxis)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕРЕЖИВАНИЕ НА ГРАНИЦЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО И ИММАНЕНТНОГО
1. Переживание и личность в unio mystica
2. Полнота и продуктивность переживания опыта жизни
3. Интенциональные переживания классической и экзистенциальной
феноменологии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография
ВВЕДЕНИЕ
Предложенный в античности принцип деления философии на физику, этику и логику длительное время считался естественным, самоочевидным и безукоризненным; еще Кант признавал, что “это деление полностью соответствует природе вещей, и нет нужды в нем что-либо исправлять” (90, 55; первая цифра означает номер в списке библиографии, последняя—номер страницы, вторая, если она есть, номер тома). Из этих дисциплин собственно антропологические исследования выпадали на долю этики, изначально связанной с рассмотрением того, как тот или иной склад, нрав, характер, остов человека (ethos) проявляется в сфере практических поступков и деяний. И такой подход вполне оправдан—тот же Кант, предвосхищая дальнейшее разделение философии на науки о духе и науки о природе, четко понимал различие между физикой, занимающейся законами природы, и этикой, занимающейся принципами свободы человека; логика же рассматривает формальные априорные законы рассудка и контролирует соответствующее их применение в области суждений . Получается, что этика отличается от физики тем, что в центре ее внимания находится проблема свободы (которая и характеризует особенность бытия человека по отношению ко всему иному сущему), а не необходимости, а от логики—тем, что она направлена на рассмотрение осуществления этой свободы в конкретном жизненном практическом опыте, а не в всеобщем, абстрактном и формальном заключении рассудка. Из этого следует, что этика рассматривает человека одновременно и с позиции того, что всеобще для человека как такового и составляет условие возможности его человеческого бытия (т.е. априорного), и с позиции того, что составляет особенность каждой конкретной личности, а именно того или иного воплощения этой свободы в конкретном действии (т.е. апостериорного); эти положения могут рассматриваться только одна через другую. Как отмечает сам Кант в своем предисловии к “Основам метафизики нравственности”, этическое исследование строится на основе, с одной стороны, априорных принципов (эту часть Кант называет моралью) и, с другой стороны, на основе опыта (эту же часть он обозначает “практической антропологией”) (см. там же, 56). Таким образом, этика, по Канту, отличается от логики тем, что она опирается не на формальные априорные принципы, а на содержательные, выявленные в опыте, а от метафизики природы — тем, что исходит не из опыта необходимого, как она, а из опыта собственно человеческого, коим является опыт свободы, опыт практического деяния.
Казалось бы, структура и поле философии определены. Но тот же Кант позже, в курсе '‘Логики”, уже не сводит философскую проблематику антропологического исследования к проблематики практической философии. Наряду с основными вопросами философии — Что я могу знать?, Что я должен делать? и На что я могу надеяться? — , он, как бы подводя им итог, ставит вопрос Что такое человек? Постановка этого последнего вопроса говорит о том, что проблематика антропологии уже выходит из границ этики, практического разума, ставших для нее узких. Более того, человек как проблема философского исследования не только приобретает самостоятельность, но и становится основополагающим фундаментом, включая и объединяя в себе все предшествующие области философского знания, т.к. все три предшествующие вопроса "можно было бы свести к антропологии" (92, 332). Это означает, что философская антропология признается уже не одним из разделов философии, а ее средоточием, самой формой философского вопрошания; человек перестает рассматриваться только как отдельное сущее, каким он рассматривался в качестве этоса или "характера" в античности, а, не переставая им быть, он своим опытом присутствия в мире высвечивает все главные метафизические основы бытия (о философской антропологии Канта см. интересное исследование: F.P. van de Pitte Kant as Philosophical Anthropologist, Kluwer, 1971.).
Но, признав антропологию фундаментальной философской наукой, Кант не смог реализовать ее замысел соответствующим образом. Он стал развивать ее в духе “человековедения” 17-18вв.- дав множество ценных и интересных замечаний по поводу эгоизма, страха, шутки, фантазии, искренности, лжи человека, он не подошел к рассмотрению человека как экзистенции, как онтологического феномена, как целостного присутствия в мире, как особого средоточия бытия как такового и бытия сущего. Одним словом, интерес Канта во многом был сосредоточен на “антропологическом”, а не на “философско-антропологическом”—он исследовал те феномены, которые вытекают из особенностей человеческого бытия, но само их основание, что определяет их своеобразие, их онтологическое назначение осталось вне его внимания(это обстоятельство четко отметил Бубер—см. 35, 159-161). А без всего этого антропология не могло действительно называться философской, не говоря уже о том, что при такой установке оказывалась не выявленной онтологическая значимость и целостность человека.
Собственно, именно целостностью подхода к человеку и отличается философская антропология от практической (и всякой другой): не останавливаясь
дальше заложенные в ней возможности” (190. 11, 34); поэтому экспериментальная модель познания античности и не основывалась на гипотезе, как новоевропейская (см. об этом :А. Койре: 98,175-204).
Подобные подходы к научным исследованиям в разных областях так или иначе исходили из новой, по сравнению с досократиками, модели познания. Если у первых натурфилософов мы встречаем единство того, что исследуется, и того, кто осуществляет это исследование, что характеризует и особый символический язык мифопоэтического мышления, то уже с 5в.д.н.э., особенно с эпохи Сократа и софистов, налицо тенденция к разделению “природно наличного” и “творчески сотворенного”. Разум начинает познавать фюсис по той же модели, по какой ремесленник производит свою продукцию, а само мышление постепенно перестает пониматься как божественное экстатическое состояние, представая как своего рода ремесло, специфическая деятельность. Самым же совершенным мастером выступает Демиург Платона, сотворивший и благоустроивший Космос. Человек начинает выделять себя из природы и осуществлять себя как самостоятельную творческую активность. И не удивительно, что новая структура познания, вызванная к жизни социальными изменениями в греческом полисе, опирается именно на эту активность—активность смыслополагания, смыслоформирования, смыслосозидания. Философ может познать только то, что его разум сам свершил, а это и означает, что структура философского .мышления начинает пониматься через структуру ремесленного производства, 1есЬпе, “ искусства” (подробней о этой связи см. 170, 25-34, а также работу Н. Меуег’а, где рассматриваются аналогии между деятельностью искусства и природы—см.246). Но при этом здесь не идет речи о активном формополагании в духе Канта, т.к. “важнейшая характеристика нуса — способность влиять и испытывать влияние, его амбивалентность” (6,. 152), что означает принципиальное единство проблемы познания и проблемы бытия, логики познания (гносеологии) и онтологии.
Так мы незаметно подошли к проблеме “искусства” как особого понимания греческой античностью опыта. Действительно, если приглядеться между искусством как 1есЬпе и етрета как экспериментом (в греческом смысле) можно увидеть много общего. Как известно, слово 1ес1те происходит от слова Юсйпе, означающего “ производить, созидать”; эта связь во многом определила и значение самого слова “искусства”, которое обозначало собой производительную деятельность прежде всего в практических областях жизни. Человек, который оказывался причастным “искусству”, представал хорошим ремесленником, мастером, умельцем своего дела, успешным исполнителем тех родов деятельности,
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Философия образования в духовной культуре России : Вторая половина XIX - начало XX вв. | Воронова, Елена Николаевна | 2004 |
| Роль религии в процессе социально-психологической адаптации мигрантов : На примере православия в период колонизации Сибири | Нейхц, Наталья Петровна | 2006 |
| Женский статус в христианстве и исламе в преломлении феминистской философии религии | Соколова, Ирина Александровна | 2006 |