Мифопоэтика советской драматургии 1920-х годов
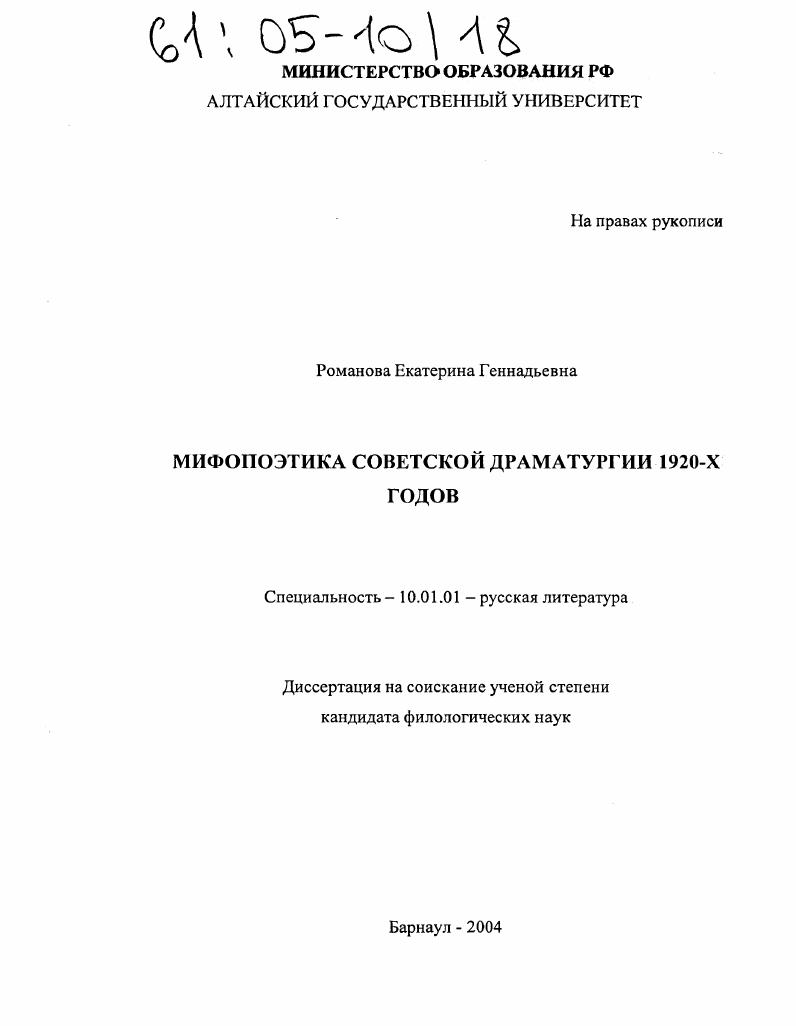
- Автор:
Романова, Екатерина Геннадьевна
- Шифр специальности:
10.01.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2004
- Место защиты:
Барнаул
- Количество страниц:
184 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
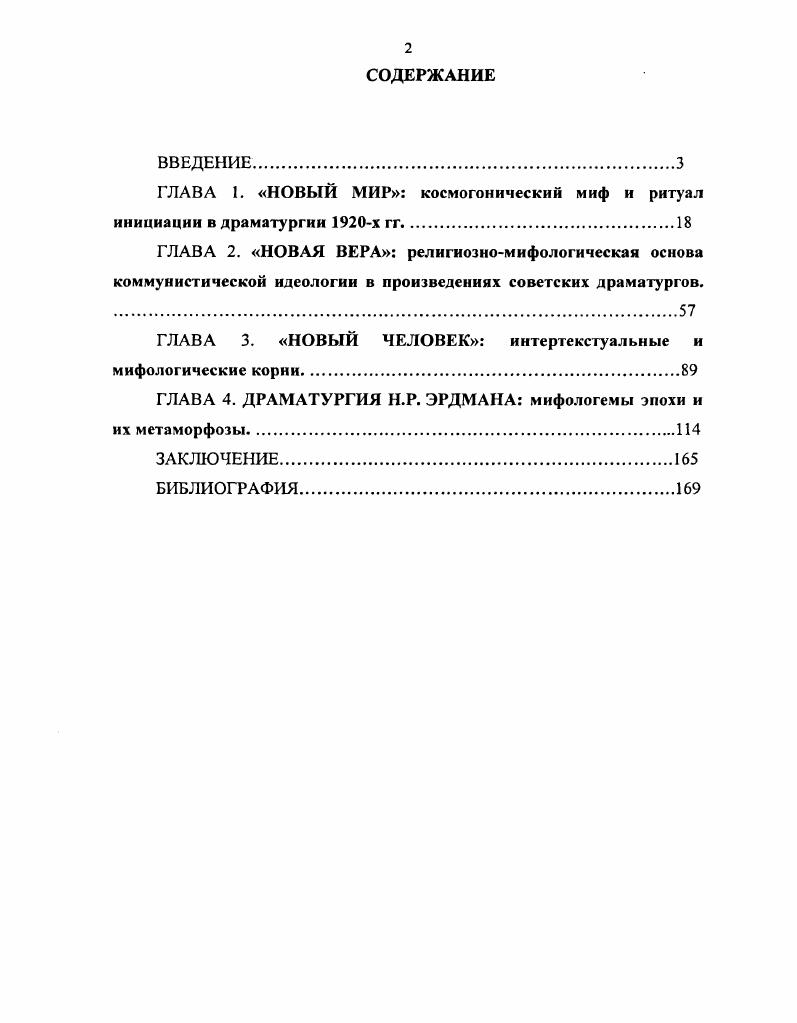
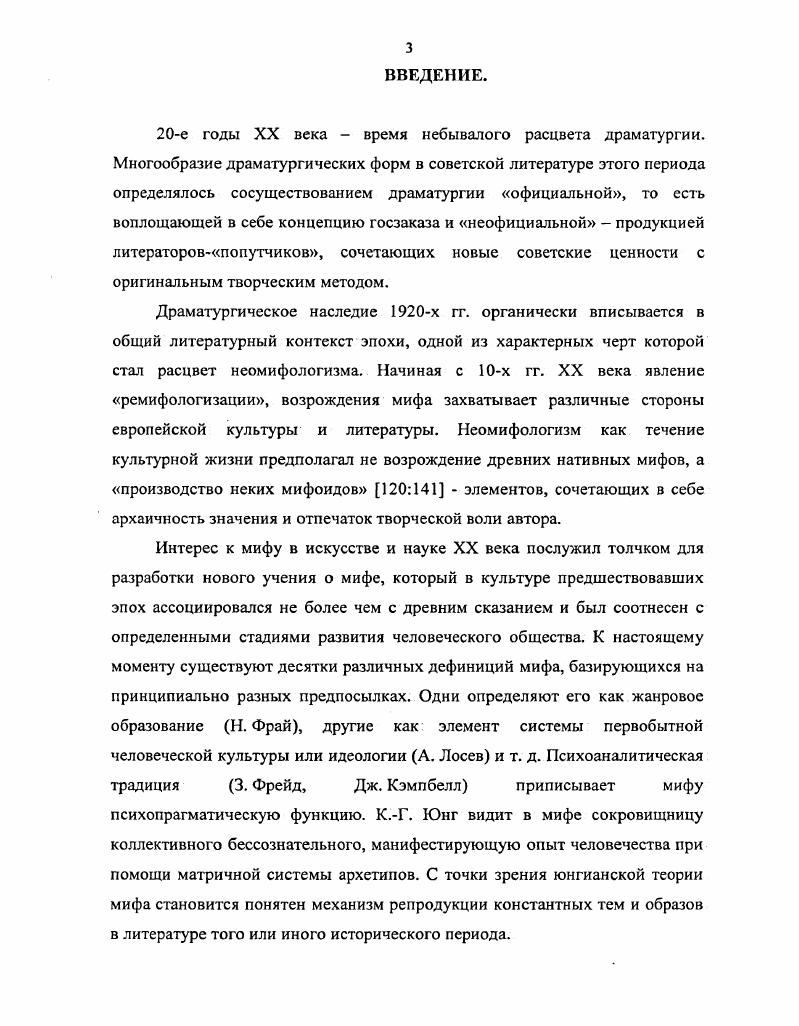
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Поэтика автобиографической прозы П.В. Засодимского | Лескова, Ольга Владимировна | 2018 |
| Проблема композиции поэтической прозы Серебряного века : на материале произведений А.П. Чехова, Андрея Белого, Б.Л. Пастернака | Шалыгина, Ольга Владимировна | 2010 |
| Цветосюжет в лирике А. Блока : на материале поэтических текстов 1905-1915 гг. | Мазуренко, Ольга Викторовна | 2015 |