Драматургия В.В. Набокова в контексте театральных исканий Серебряного века
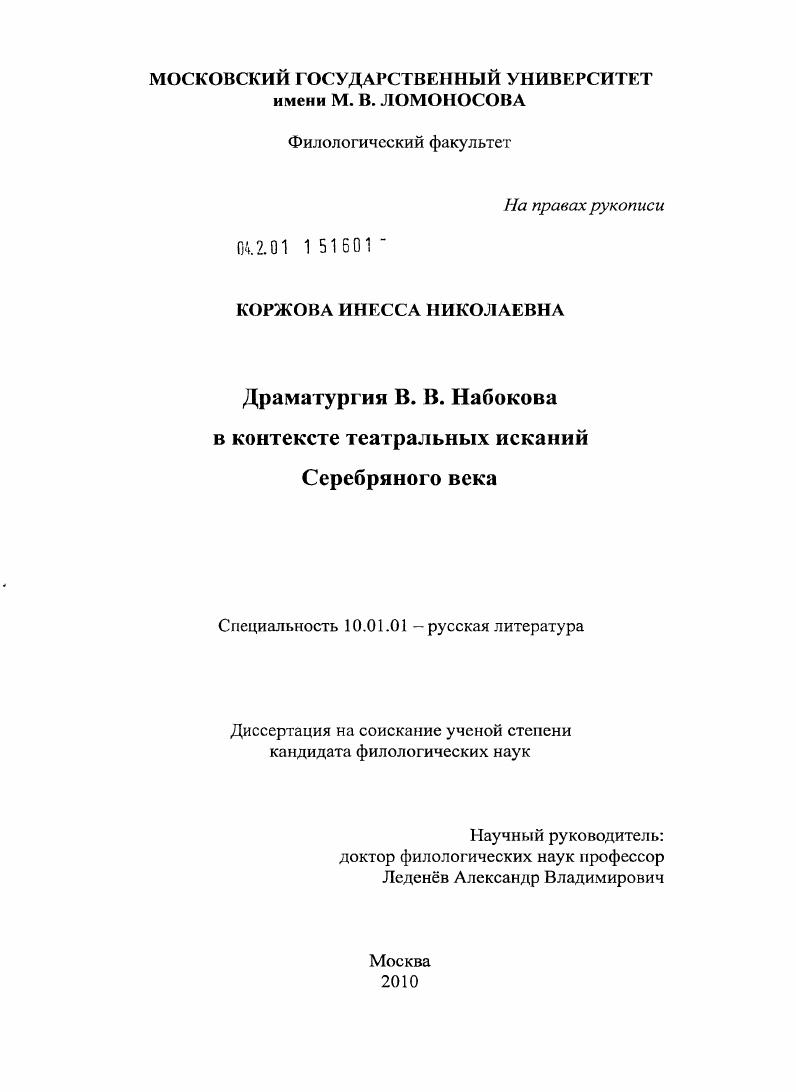
- Автор:
Коржова, Инесса Николаевна
- Шифр специальности:
10.01.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2010
- Место защиты:
Москва
- Количество страниц:
201 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
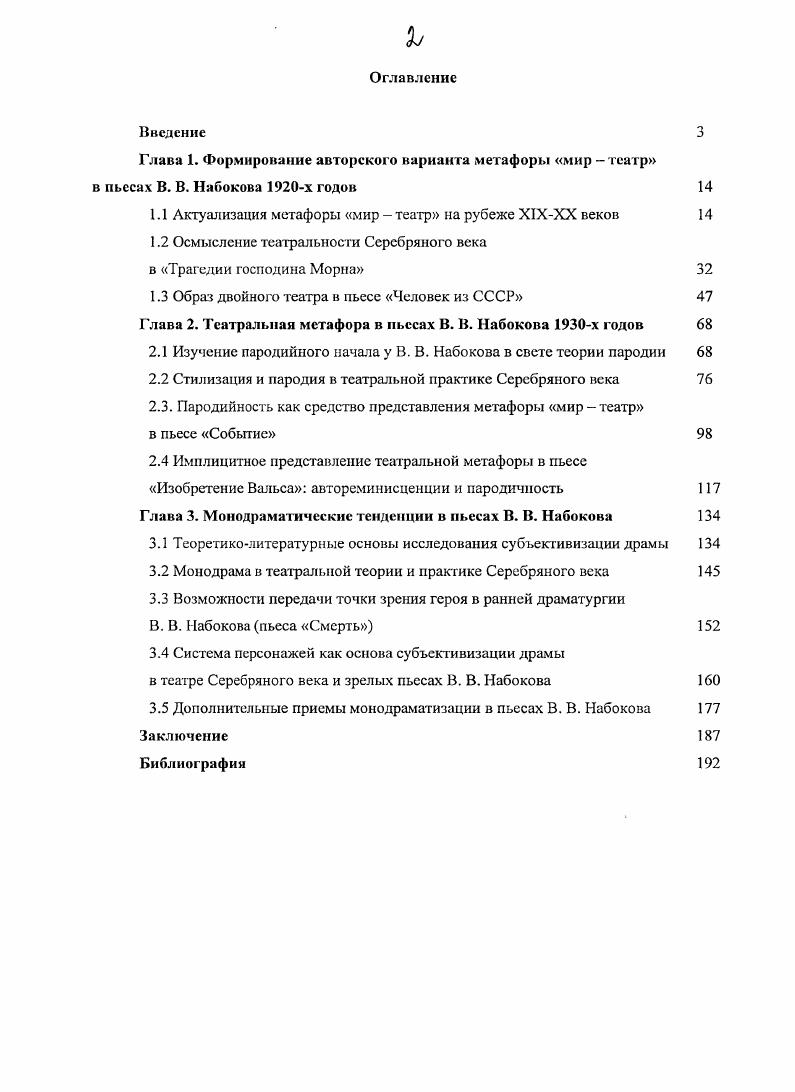
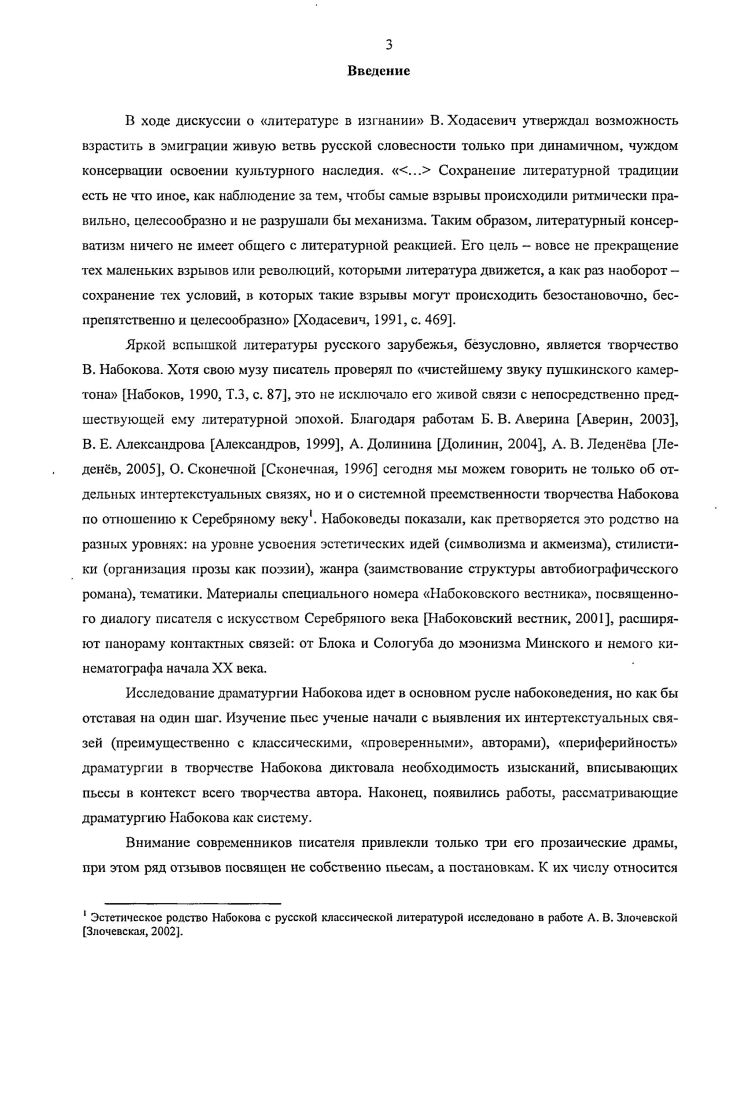
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Сатира в русской литературе конца 70-80-х годов XVIII века (журналы "Собрание новостей", "Санктпетербургский вестник", "Утро", "Лекарство от скуки и забот" и другие) | Ищенко, Лариса Ивановна | 1984 |
| Религиозно-философские основы художественного творчества Б.К. Зайцева 1900 - 1920-х гг. | Князева, Оксана Григорьевна | 2007 |
| Притча в системе художественного мышления В. Маканина | Климова, Тамара Юрьевна | 1999 |