Культурно-цивилизационная специфика современной мифологии
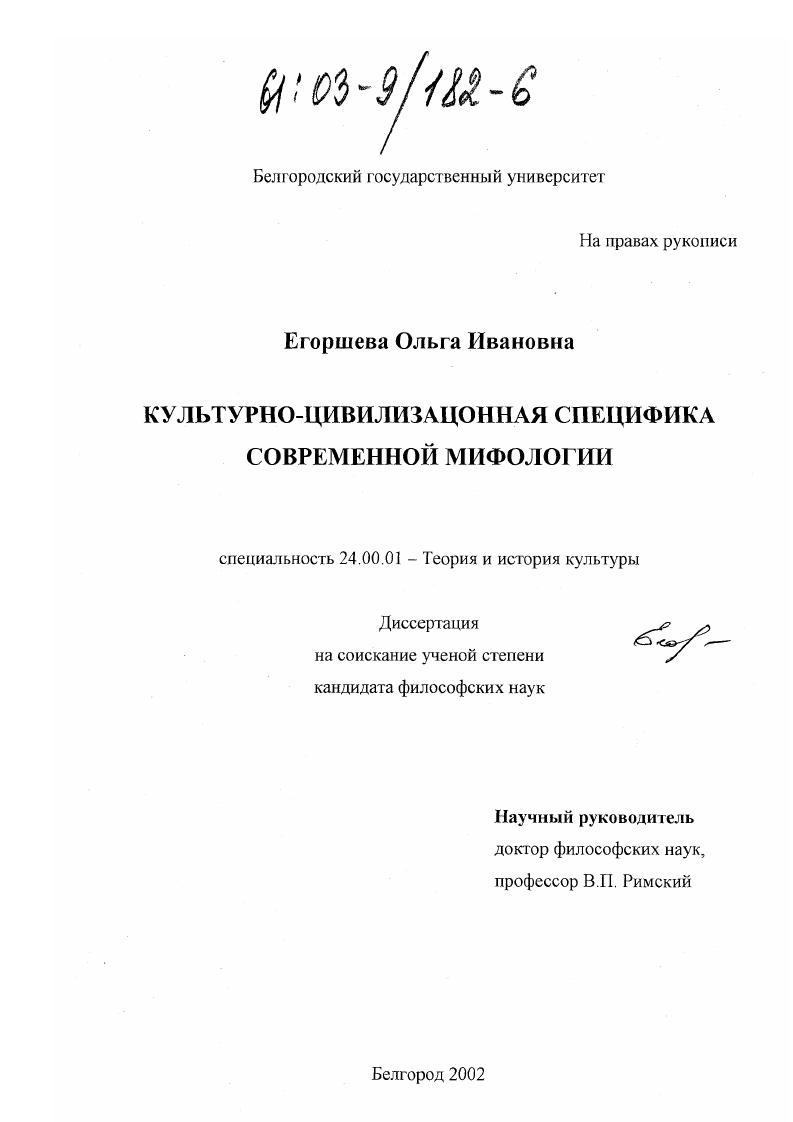
- Автор:
Егоршева, Ольга Ивановна
- Шифр специальности:
24.00.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2002
- Место защиты:
Белгород
- Количество страниц:
153 с.
Стоимость:
700 р.499 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
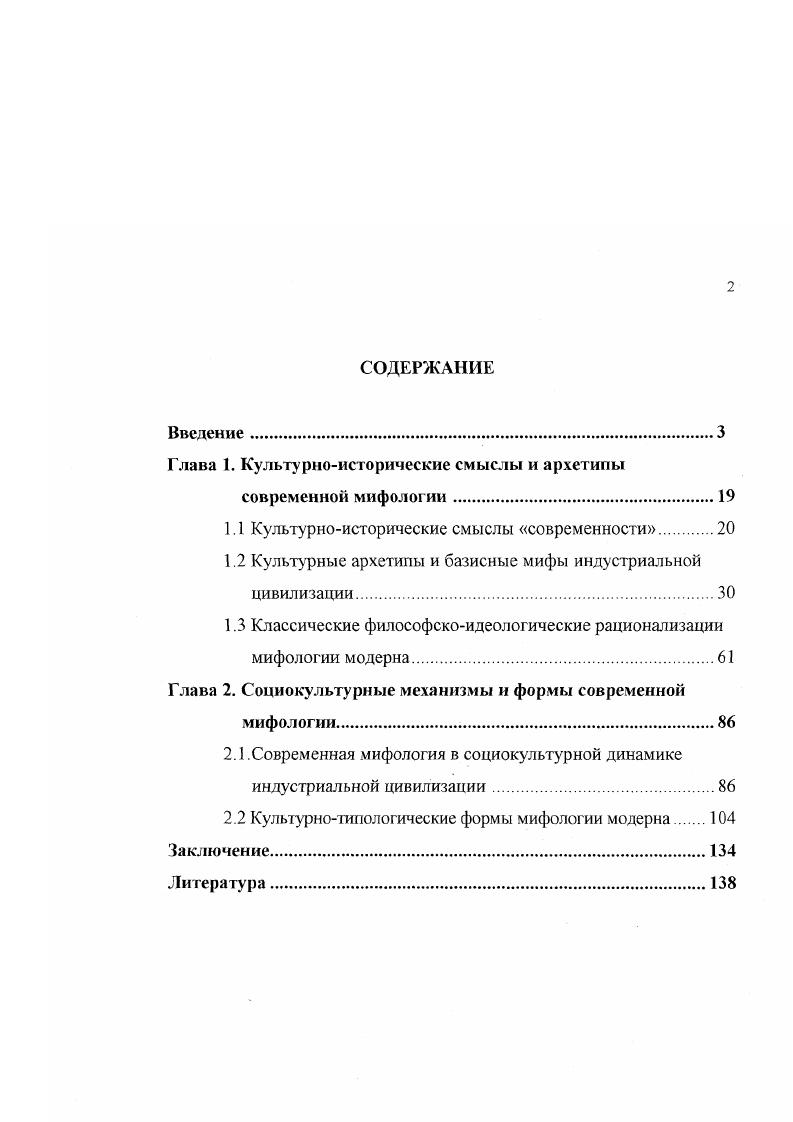
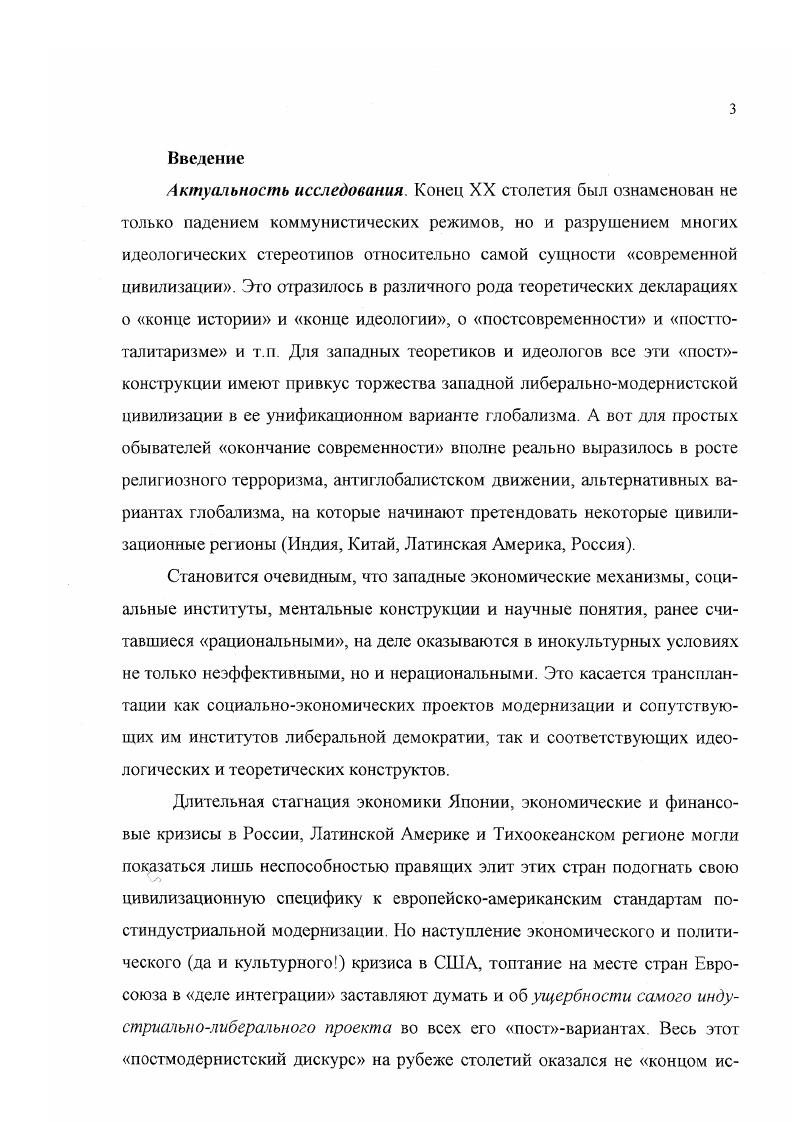
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Культурно-исторические смыслы и архетипы
современной мифологии
1.1 Культурно-исторические смыслы «современности»
1.2 Культурные архетипы и базисные мифы индустриальной цивилизации
1.3 Классические философско-идеологические рационализации мифологии модерна
Глава 2. Социокультурные механизмы и формы современной
мифологии
2.1 .Современная мифология в социокультурной динамике индустриальной цивилизации
2.2 Культурно-типологические формы мифологии модерна
Заключение
Литература
Введение
Актуальность исследования. Конец XX столетия был ознаменован не только падением коммунистических режимов, но и разрушением многих идеологических стереотипов относительно самой сущности «современной цивилизации». Это отразилось в различного рода теоретических декларациях о «конце истории» и «конце идеологии», о «постсовременности» и «посттоталитаризме» и т.п. Для западных теоретиков и идеологов все эти «пост»-конструкции имеют привкус торжества западной либерально-модернистской цивилизации в ее унификационном варианте глобализма. А вот для простых обывателей «окончание современности» вполне реально выразилось в росте религиозного терроризма, антиглобалистском движении, альтернативных вариантах глобализма, на которые начинают претендовать некоторые цивилизационные регионы (Индия, Китай, Латинская Америка, Россия).
Становится очевидным, что западные экономические механизмы, социальные институты, ментальные конструкции и научные понятия, ранее считавшиеся «рациональными», на деле оказываются в инокультурных условиях не только неэффективными, но и нерациональными. Это касается трансплантации как социально-экономических проектов модернизации и сопутствующих им институтов либеральной демократии, так и соответствующих идеологических и теоретических конструктов.
Длительная стагнация экономики Японии, экономические и финансовые кризисы в России, Латинской Америке и Тихоокеанском регионе могли показаться лишь неспособностью правящих элит этих стран подогнать свою цивилизационную специфику к европейско-американским стандартам постиндустриальной модернизации. Но наступление экономического и политического (да и культурного!) кризиса в США, топтание на месте стран Евросоюза в «деле интеграции» заставляют думать и об ущербности самого индустриально-либерального проекта во всех его «пост»-вариантах. Весь этот «постмодернистский дискурс» на рубеже столетий оказался не «концом ис-
тории», а концом одного большого комплекса мифологических конструктов, обслуживавших в течение 500 лет один (!) - не универсальный, а столь же «уникальный», как и другие, культурно-цивилизационный проект.
Технико-экономический, политический, научный и культурноповседневный рационализм западной индустриальной цивилизации оказался на поверку не чуждым самым антирациональным формам мистицизма и мифологии. Это выразилось и в появлении различного рода паранаучных и псевдонаучных теорий, которые наряду с нетрадиционными формами религий заполонили Запад через каналы массовой культуры, и в мифологизации самых «академичных» научных дисциплин, гуманитарных и естественнотехнических. Еще больший потенциал антирационализма проявлялся и проявляется там, где правящие классы пытаются совместить культурную самобытность страны с западно-индустриальным проектом. Советский и германский тоталитаризм, китайская автохтонность периода Мао и иранский фундаментализм, различные варианты антиглобализма - все несло и несет свою форму «мифологизации» и антирационализма. Однако, нам представляется несколько поспешным ставить знак равенства между мифом и политикоидеологическим антирационализмом, которые сопрягаются во времени и пространстве «современности», но не предполагают абсолютную взаимозависимость.
Степень разработанности проблемы. Вообще понятию «миф» и «мифология» не повезло еще с древних времен, когда вначале античность объявила народную мифологию предрассудком, а затем уже христианство отбросило все языческие мифы в качестве «неистинных». Неудивительно, что таким же образом эпоха Просвещения расправилась и с религиозномифологическим наследием христианского традиционализма, объявив само христианство «темным пережитком», «суеверием» и «мифом». Определенная реабилитация мифа как формы первичной, «народной» культуры последовала в философских интуициях романтиков и философии Шеллинга: миф орга-
гохульстве, ересях, колдовстве. Тем самым корона подчинила себе религию -важнейший источник формирования политических и моральных убеждений населения. Может показаться, что это и было настоящей секуляризацией. Но на деле Реформация привела не к ослаблению, а к значительному укреплению фактического положения англиканского духовенства. Профессиональная церковная элита, ранее исповедовавшая островной вариант католицизма и номинально подчинявшаяся папскому престолу в Риме, была поставлена на службу абсолютизму и королю, а взамен эфемерной духовной власти над обществом получила вполне осязаемую политическую власть.
В результате, некогда дарованная Отцом Небесным харизма, была дополнена материальным субстратом, и реформированная церковь стала представлять собой один из наиболее важных институтов государства. И этот главный итог английской Реформации был по-своему логичен и закономерен. «Рационализм иерократии, - подчеркивал М. Вебер, - выросший из профессиональных занятий культом и мифом или в еще значительно большей степени из спасения души, т.е. из отпущения грехов и наставлений грешникам, повсюду стремился монополизировать спасение, даруемое религией, другими словами, придать ему посредством ритуала форму «сакраментальной благодати», или благодати, даруемой учреждением, а не достигаемой каждым в отдельности» (39, с.51).
Изменился и характер королевской власти. Монарх не просто формально возглавил Церковь, но возложил на себя символические полномочия иного субъекта политики, теоретически имевшего абсолютные, то есть ничем и никем неограниченные права для осуществления безответственного и бесконтрольного управления государством и обществом. Яков I (1603 -1625), например, постоянно подчеркивал «божественное происхождение» свое и своего трона, но порой доходил до утверждения себя как «земного бога». Весьма показательный пример того, как происходило перенесение сакральной мифологии на сугубо мирскую почву, ее трансформация в формы
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Социокультурные механизмы адаптации личности в условиях современной массовой культуры | Купцова, Ирина Александровна | 2002 |
| Коммуникативно-семиотическое моделирование социокультурных изменений | Лукьянова, Наталия Александровна | 2009 |
| Влияние православия на духовную жизнь Сибири в XVII - начале XX веков | Тресвятский, Лев Алексеевич | 2006 |