Концепт "игра" в культурологическом дискурсе XX в. : Проблемы изучения и актуальные тенденции
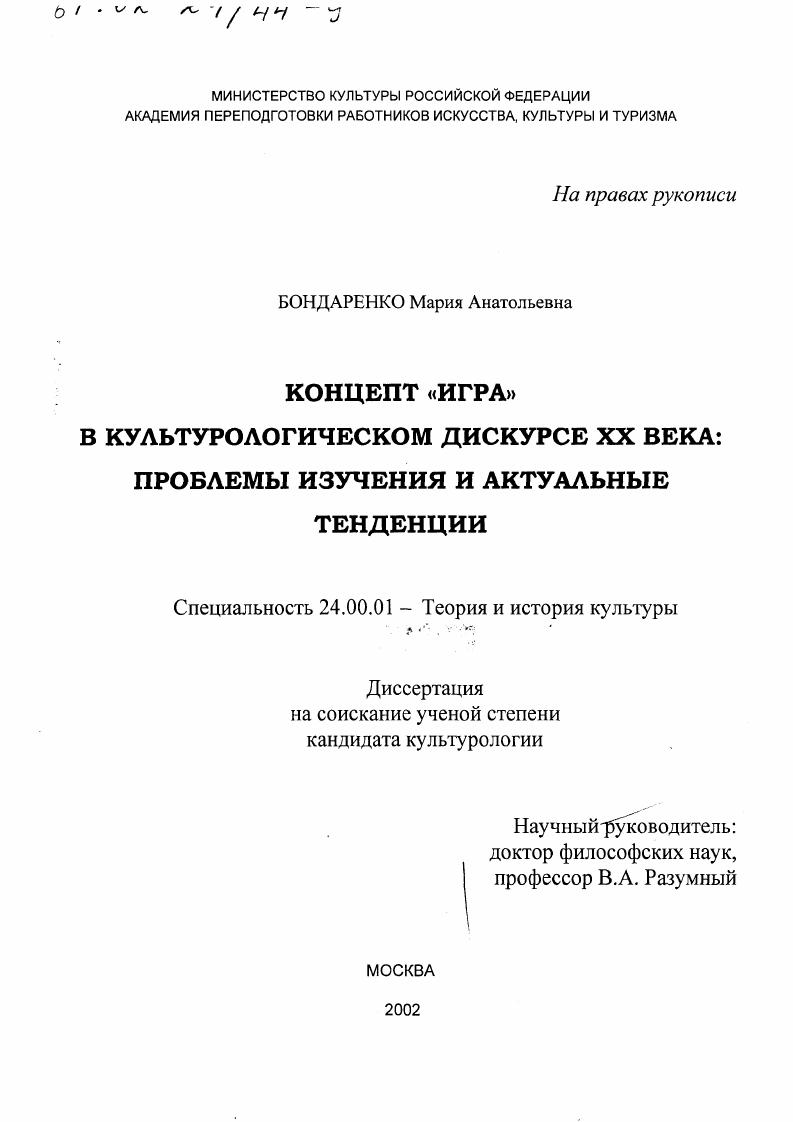
- Автор:
Бондаренко, Мария Анатольевна
- Шифр специальности:
24.00.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2002
- Место защиты:
Москва
- Количество страниц:
158 с.
Стоимость:
700 р.499 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
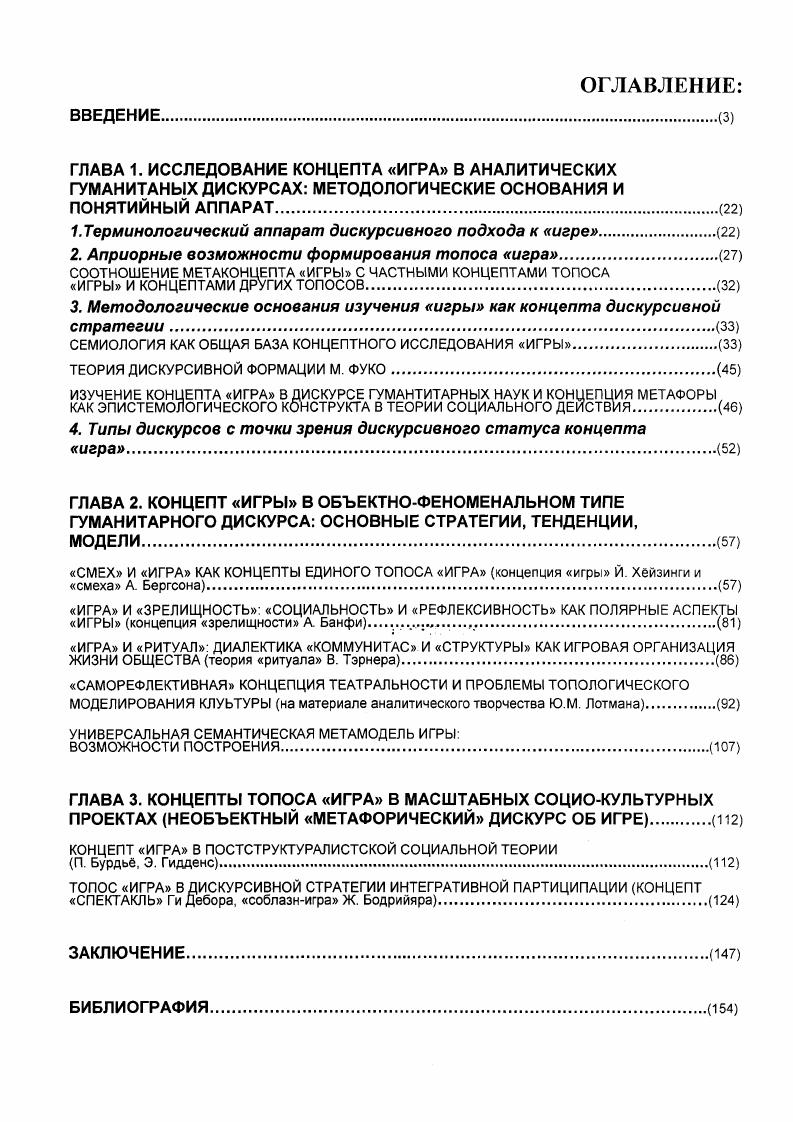
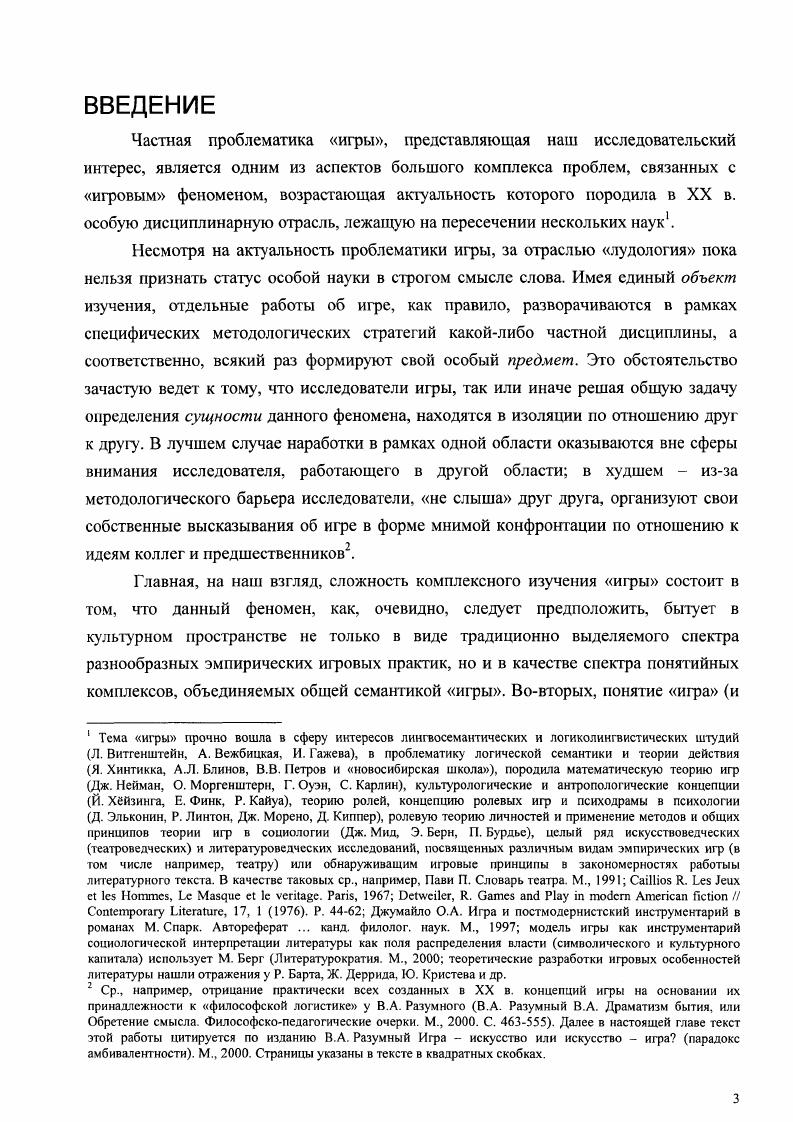
ОГЛАВЛЕНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТА «ИГРА» В АНАЛИТИЧЕСКИХ ГУМАНИТАНЫХ ДИСКУРСАХ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ....................................................(22)
1. Терминологический аппарат дискурсивного подхода к «игре»...........(22)
2. Априорные возможности формирования топоса «игра»...................(27)
СООТНОШЕНИЕ МЕТАКОНЦЕПТА «ИГРЫ» С ЧАСТНЫМИ КОНЦЕПТАМИ ТОПОСА
«ИГРЫ» И КОНЦЕПТАМИ ДРУГИХ ТОПОСОВ....................................(32)
3. Методологические основания изучения «игры» как концепта дискурсивной стратегии.............................................................(33)
СЕМИОЛОГИЯ КАК ОБЩАЯ БАЗА КОНЦЕПТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «ИГРЫ».............(33)
ТЕОРИЯ ДИСКУРСИВНОЙ ФОРМАЦИИ М. ФУКО..................................(45)
ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПТА «ИГРА» В ДИСКУРСЕ ГУМАНТИТАРНЫХ НАУК И КОНЦЕПЦИЯ МЕТАФОРЫ КАК ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО КОНСТРУКТА В ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ......(46)
4. Типы дискурсов с точки зрения дискурсивного статуса концепта
«игра»...............................................................(52)
ГЛАВА 2. КОНЦЕПТ «ИГРЫ» В ОБЪЕКТНО-ФЕНОМЕНАЛЬНОМ ТИПЕ ГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРСА: ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ, ТЕНДЕНЦИИ,
МОДЕЛИ.................................................................(57)
«СМЕХ» И «ИГРА» КАК КОНЦЕПТЫ ЕДИНОГО ТОПОСА «ИГРА» (концепция «игры» Й. Хейзинги и «смеха» А. Бергсона)....................................................... (57)
«ИГРА» И «ЗРЕЛИЩНОСТЬ»: «СОЦИАЛЬНОСТЬ» И «РЕФЛЕКСИВНОСТЬ» КАК ПОЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ «ИГРЫ» (концепция «зрелищности» А. Банфи)... ................................(81)
«ИГРА» И «РИТУАЛ»: ДИАЛЕКТИКА «КОММУНИТАС» И «СТРУКТУРЫ» КАК ИГРОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА (теория «ритуала» В. Тэрнера).................................(86)
«САМОРЕФЛЕКТИВНАЯ» КОНЦЕПЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ТОПОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛУЬТУРЫ (на материале аналитического творчества Ю.М. Лотмана).(92)
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ МЕТАМОДЕЛЬ ИГРЫ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ......................................................(107)
ГЛАВА 3. КОНЦЕПТЫ ТОПОСА «ИГРА» В МАСШТАБНЫХ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТАХ (НЕОБЪЕКТНЫЙ «МЕТАФОРИЧЕСКИЙ» ДИСКУРС ОБ ИГРЕ)..........(112)
КОНЦЕПТ «ИГРА» В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
(П. Бурдьё, Э. Гидденс)................................................... (112)
ТОПОС «ИГРА» В ДИСКУРСИВНОЙ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПАРТИЦИПАЦИИ (КОНЦЕПТ «СПЕКТАКЛЬ» Ги Дебора, «соблазн-игра» Ж. Бодрийяра).........................(124)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................(147)
БИБЛИОГРАФИЯ
,(154)
ВВЕДЕНИЕ
Частная проблематика «игры», представляющая наш исследовательский интерес, является одним из аспектов большого комплекса проблем, связанных с «игровым» феноменом, возрастающая актуальность которого породила в XX в. особую дисциплинарную отрасль, лежащую на пересечении нескольких наук1.
Несмотря на актуальность проблематики игры, за отраслью «лудология» пока нельзя признать статус особой науки в строгом смысле слова. Имея единый объект изучения, отдельные работы об игре, как правило, разворачиваются в рамках специфических методологических стратегий какой-либо частной дисциплины, а соответственно, всякий раз формируют свой особый предмет. Это обстоятельство зачастую ведет к тому, что исследователи игры, так или иначе решая общую задачу определения сущности данного феномена, находятся в изоляции по отношению друг к другу. В лучшем случае наработки в рамках одной области оказываются вне сферы внимания исследователя, работающего в другой области; в худшем - из-за методологического барьера исследователи, «не слыша» друг друга, организуют свои собственные высказывания об игре в форме мнимой конфронтации по отношению к идеям коллег и предшественников2.
Главная, на наш взгляд, сложность комплексного изучения «игры» состоит в том, что данный феномен, как, очевидно, следует предположить, бытует в культурном пространстве не только в виде традиционно выделяемого спектра разнообразных эмпирических игровых практик, но и в качестве спектра понятийных комплексов, объединяемых общей семантикой «игры». Во-вторых, понятие «игра» (и
1 Тема «игры» прочно вошла в сферу интересов лингвосемантических и логиколингвистических штудий (J1. Витгенштейн, А. Вежбицкая, И. Гажева), в проблематику логической семантики и теории действия (Я. Хинтикка, A.J1. Блинов, В.В. Петров и «новосибирская школа»), породила математическую теорию игр (Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Г. Оуэн, С. Карлин), культурологические и антропологические концепции (Й. Хёйзинга, Е. Финк, Р. Кайуа), теорию ролей, концепцию ролевых игр и психодрамы в психологии (Д. Эльконин, Р. Линтон, Дж. Морено, Д. Киппер), ролевую теорию личностей и применение методов и общих принципов теории игр в социологии (Дж. Мид, Э. Берн, П. Бурдье), целый ряд искусствоведческих (театроведческих) и литературоведческих исследований, посвященных различным видам эмпирических игр (в том числе например, театру) или обнаруживащим игровые принципы в закономерностях работыы литературного текста. В качестве таковых ср., например, Пави П. Словарь театра. М., 1991; Caillios R. Les Jeux et les Hommes, Le Masque et le veritage. Paris, 1967; Detweiler, R. Games and Play in modem American fiction // Contemporary Literature, 17, 1 (1976). P. 44-62; Джумайло O.A. Игра и постмодернистский инструментарий в романах М. Спарк. Автореферат ... канд. филолог, наук. М., 1997; модель игры как инструментарий социологической интерпретации литературы как поля распределения власти (символического и культурного капитала) использует М. Берг (Литературократия. М., 2000; теоретические разработки игровых особенностей литературы нашли отражения у Р. Барта, Ж. Деррида, Ю. Кристева и др.
2 Ср., например, отрицание практически всех созданных в XX в. концепций игры на основании их принадлежности к «философской логистике» у В.А. Разумного (В.А. Разумный В.А. Драматизм бытия, или Обретение смысла. Философско-педагогические очерки. М., 2000. С. 463-555). Далее в настоящей главе текст этой работы цитируется по изданию В.А. Разумный Игра - искусство или искусство - игра? (парадокс амбивалентности). М., 2000. Страницы указаны в тексте в квадратных скобках.
примыкающие к нему) в языке гуманитарной науки выступает не только для обозначения «объекта» исследования (эмпирического культурного феномена и/или вырабатываемой в ходе исследования его модели), «игра» используется в контекстах, не имеющих напрямую отношения к эмпирическим игровым практикам, т.е. применяется для описания вещей, не связанных в нашем сознании напрямую с игрой1. Причем зачастую «игра» используется здесь не только как эмпирический пример или метафора, в частном порядке иллюстрирующая положения той или иной концепции, а вплетается в саму ткань научного дискурса, организует стратегию развертывания аналитической мысли. В этом случае понятие «игра» не имеет эмпирической референции, но отсылает к иной области бытования культуры. Это вынуждает нас рассматривать «игру» как «феномен культуры», реализующийся на ментальном уровне культурных архетипов, моделей, образов, познавательных конструктов, представляющих, по нашему мнению, неотъемлемую часть самой культуры.
В отличие от эмпирического игрового феномена, ставшего предметом многочисленных исследований, эта вторая область бытования игры до сих пор (насколько нам удалось установить) не получила специальной разработки в отечественной и зарубежной гуманитарной науке. Несмотря на это обстоятельство, в ряде частнодисциплинарных исследований (в рамках психологии, социологии, лингвистики, логики, семиологии, философии, культурологии, философии, методологии и социологии науки, литературоведения, искусствоведения и т.д.) накоплено достаточно знаний в этой области, чтобы на их основании осуществить попытку нового осмысления роли феномена игры в современной культуре. Актуальная задача интегрировать частнодисциплинарные знания об игре (включая при этом и «необъектное» использование концепта «игры») в единую науку, вероятно, требует выработки не столько единой методологии, сколько единой системы конвертаций методологических стратегий различных дисциплин. Конвертация же осуществима только при выходе на качественно новый, наддисциплинарный уровень. Такая метазадача тесно соприкасается с более широкой методологической проблематикой, остающейся актуальной по сей день - выделение культурологии как самостоятельной дисциплинарной области.
Методологическая стратегия исследования «игры» Й. Хёйзинги в аспекте проблематики методологических оснований культурологии.
Исследование Й. Хёйзинги «Ното Ыбепя», являясь одной из самых авторитетных работ об игре, остается при этом и одной из самой дискуссионных, как
1 Например, так употребляется понятие «игра» в социологических концепциях П. Бурдьё, А. Гидденса, в философских и культурологических концепциях М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, А. Бергсона, а также М. Фуко, Ж. Делеза, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Г и Дебора, Ж. Липовецки и мн. др.
треугольника). Уже само традиционно принятое графическое изображение «семиотической ситуация» демонстрирует многоплановую ориентированность знака1.
реальность
понятий
реальность референта,
«объективная
действительность»
(денотат — ^понятийное представление)
референт
Как известно, представление о знаке на протяжении XX в. не оставалось неизменным. По замечанию Ю.С. Степанова, движение этого развития можно представить как последовательное углубление и расширение изначально намеченных в первых концепциях знака (Ф. де Соссюр) представлений об условной, конвенциональной природе связей между его элементами. В середине 50-х гг. эта тенденция оформилась в систематическую критику традиционной модели знака (Ж. Лакан, Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева и др.) и породила ряд новых концепций, переносящих знаковый подход из узколингвистической области в сферу разнообразных социо-культурных явлений:
«Под влиянием теоретиков структурализма и постструктурализма [...], отстаивающих языковой характер мышления, сознания человека было отождествлено с письменным текстом как якобы единственным способом его фиксации. В конечном же счете как текст стало рассматриваться все: литература, культура, общество, история, сам человек»2.
В ревизионных концепциях знака акцент был сделан на критике «естественной» связи между означающим и означаемым:
«В основу прагматики 1950-х был положен тезис об отсутствии естественной связи между «означаемым» и «означающим» как двумя сторонами знака - материальной и психологической, а также об отсутствии этой связи между знаком в целом (состоящего из «означающего» и «означаемого») и предметом. Более того, этот же тезис был дополнен положением об отсутствии сколько-нибудь «беспрекословной» социальной связи между тремя сущностями»3.
Потенциально заложенную в классической модели идею о произвольности связей между референтом и знаком новое поколение семиотиков (прежде всего в лице Ж. Лакана) развило в идею о знаке как отсутствии объекта, т.е. делая акцент на принципиальной субституции (замещении, подмены) вещи, или референта, знаком в акте означивания (или иначе - наличие знака требует отсутствия референта)4. Внутри самого знака соотношение между означаемым и означающим предстают как
А также потенциальную близость семиологических концептов с концептами пространственными (и потенциально - с концептами топоса «игры»)
2 Ильин И. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. М., 1996. С. 216.
3 Семиотика. Антология / Сост. Ю.С. Степанов. В 2-х т. Т. 1. Благовещенск, 1998. С. 33.
4 См. Ильин И. Указ. соч. С. 91-92.
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Демонология в визуальной культуре Московской Руси | Антонов, Дмитрий Игоревич | 2019 |
| Социальная коммуникация как фактор развития музыкальной театральной культуры | Лисенкова, Анастасия Алексеевна | 2003 |
| Культурный текст в структуре реальности : На материале творчества ОБЭРИУ | Надеждина, Евгения Владимировна | 1999 |