Опыт французского неоавангарда в свете феномена возвышенного
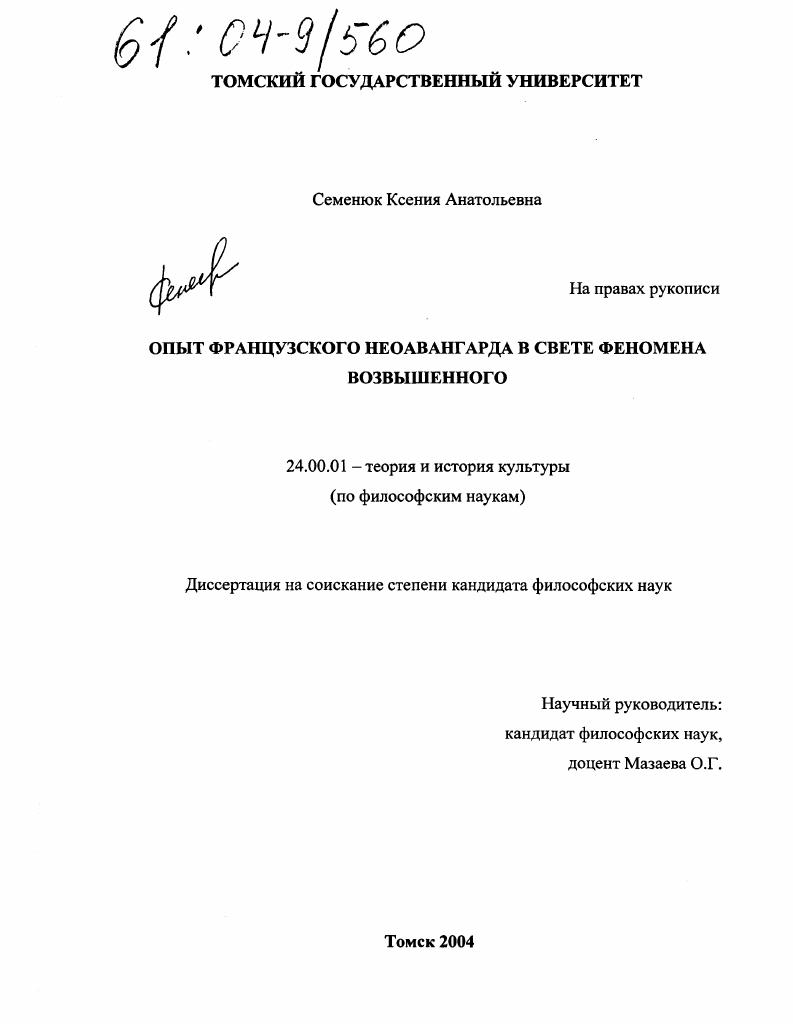
- Автор:
Семенюк, Ксения Анатольевна
- Шифр специальности:
24.00.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2004
- Место защиты:
Томск
- Количество страниц:
128 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
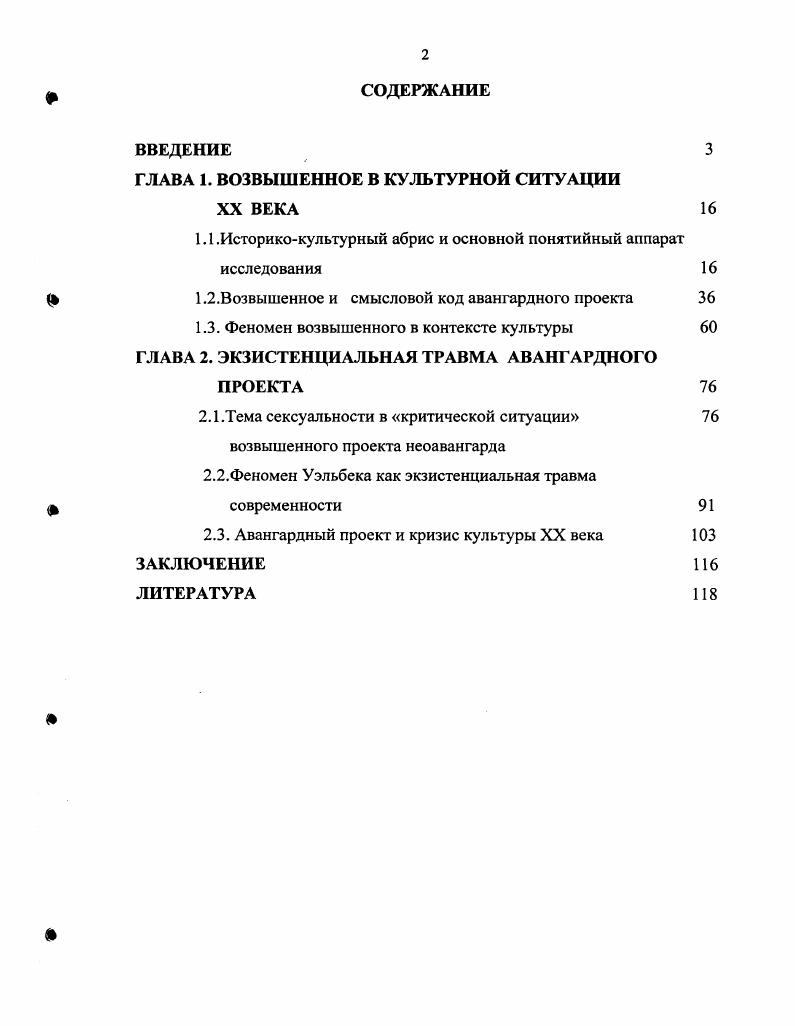
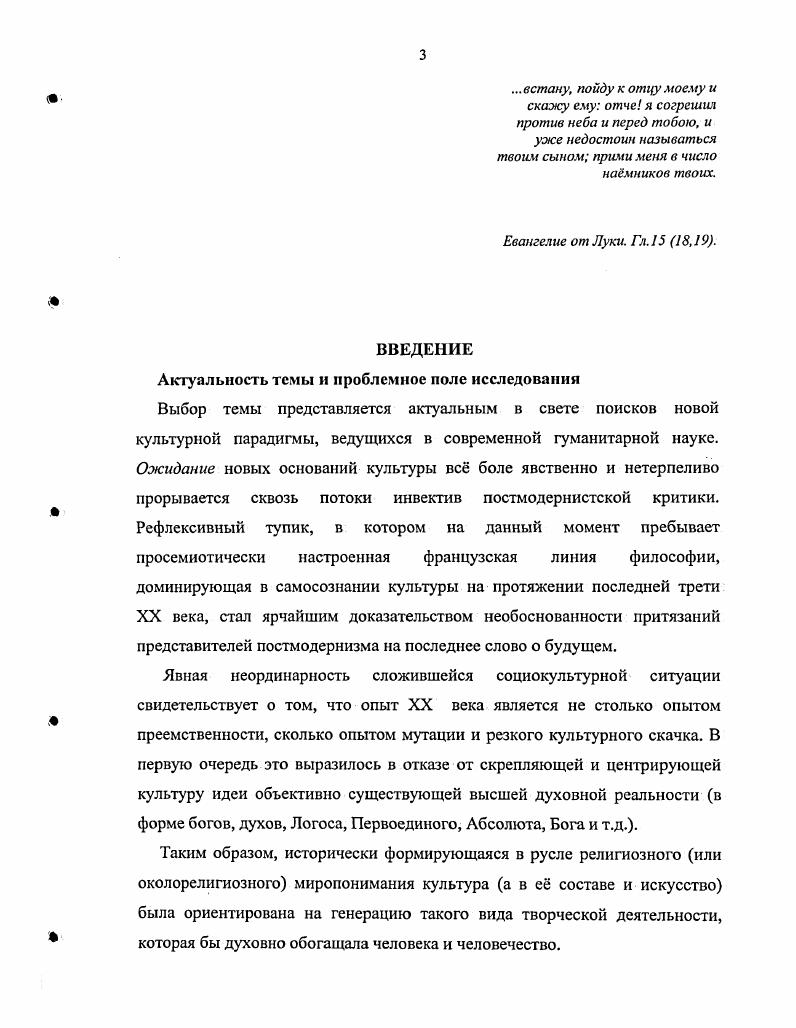
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Звуковой ландшафт Русского Севера: историко-культурные смыслы и музыкальная рефлексия | Крехалева Елена Анатольевна | 2015 |
| Демонология в визуальной культуре Московской Руси | Антонов, Дмитрий Игоревич | 2019 |
| Христианская базилика: архитектура и идеология | Земскова, Вера Ивановна | 2006 |