Рецепция мусульманской ментальности в русской / советской культуре XX века
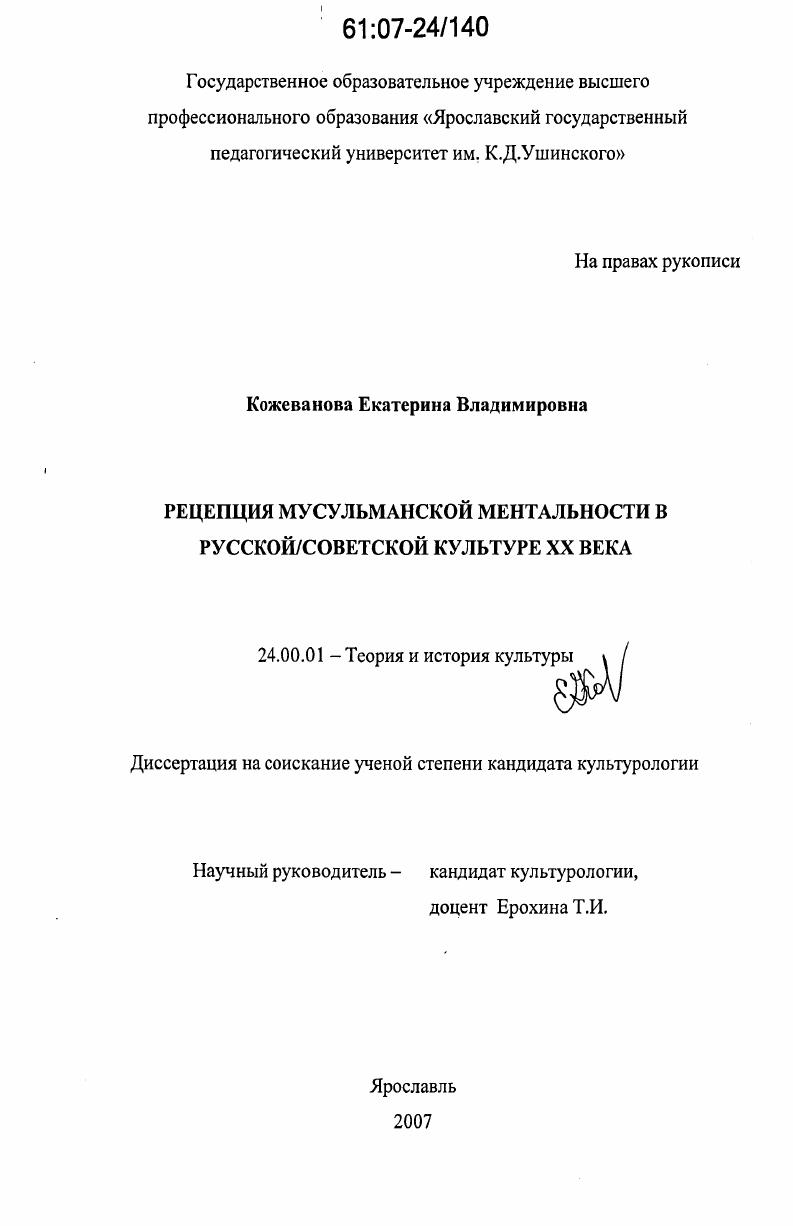
- Автор:
Кожеванова, Екатерина Владимировна
- Шифр специальности:
24.00.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2007
- Место защиты:
Ярославль
- Количество страниц:
149 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
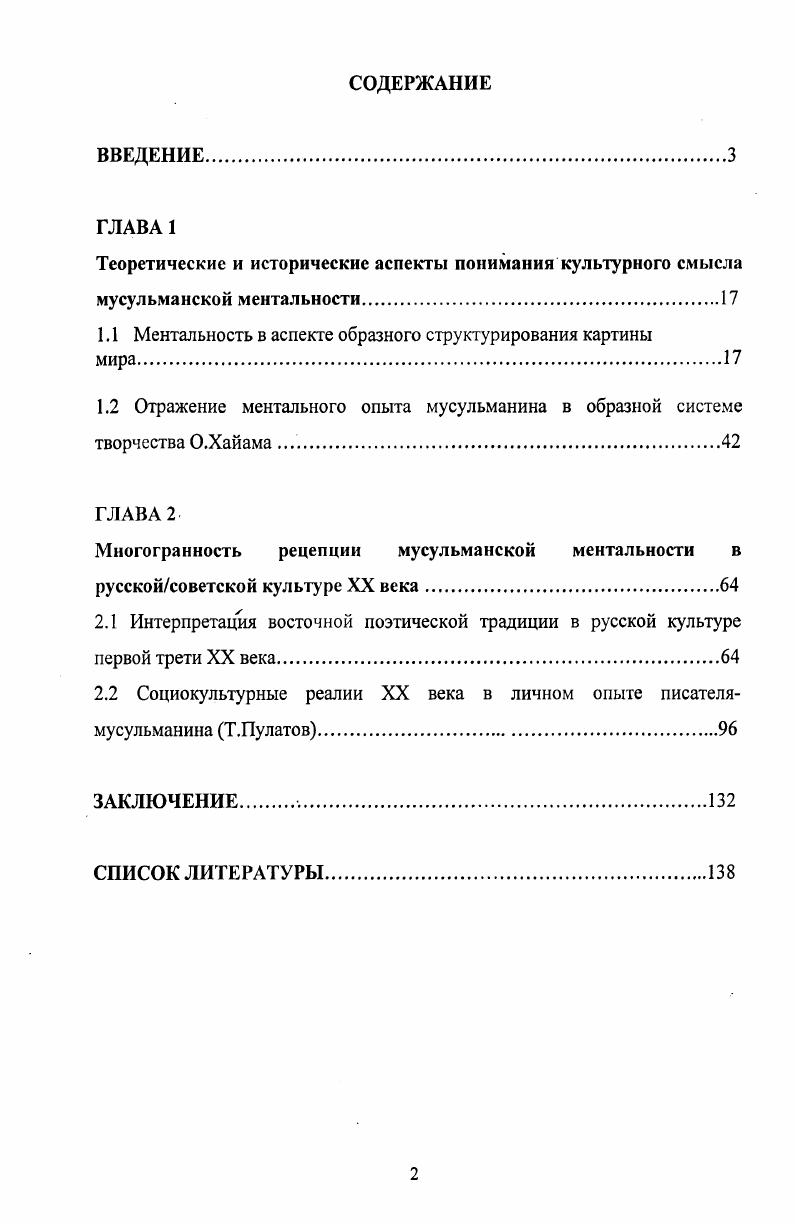
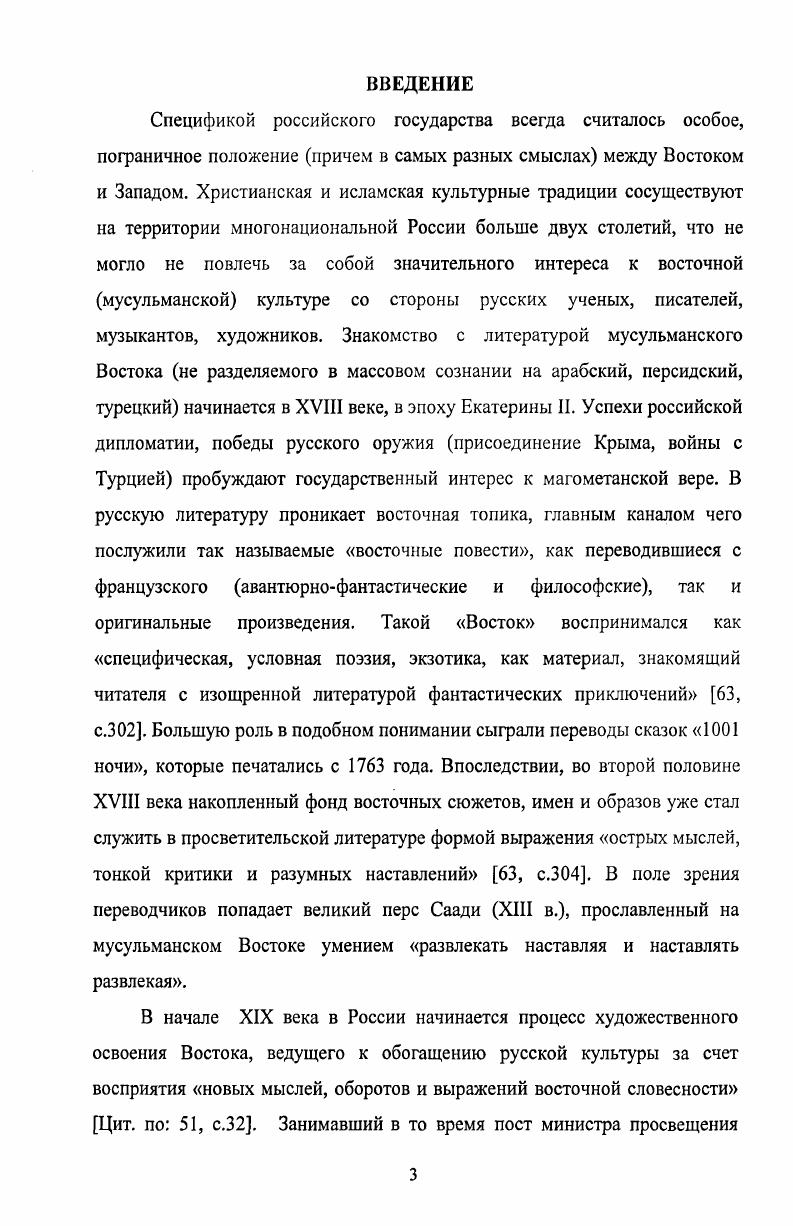
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Культурно-антропологические основания философии языка В. фон Гумбольдта | Панченко, Варвара Антоновна | 2010 |
| Процессы маргинализации в современной художественной культуре | Шехтер, Татьяна Ефимовна | 1998 |
| Художественный музей как феномен культуры | Калугина, Татьяна Павловна | 2002 |