Символический подтекст романа Ф. М. Достоевского "Бесы"
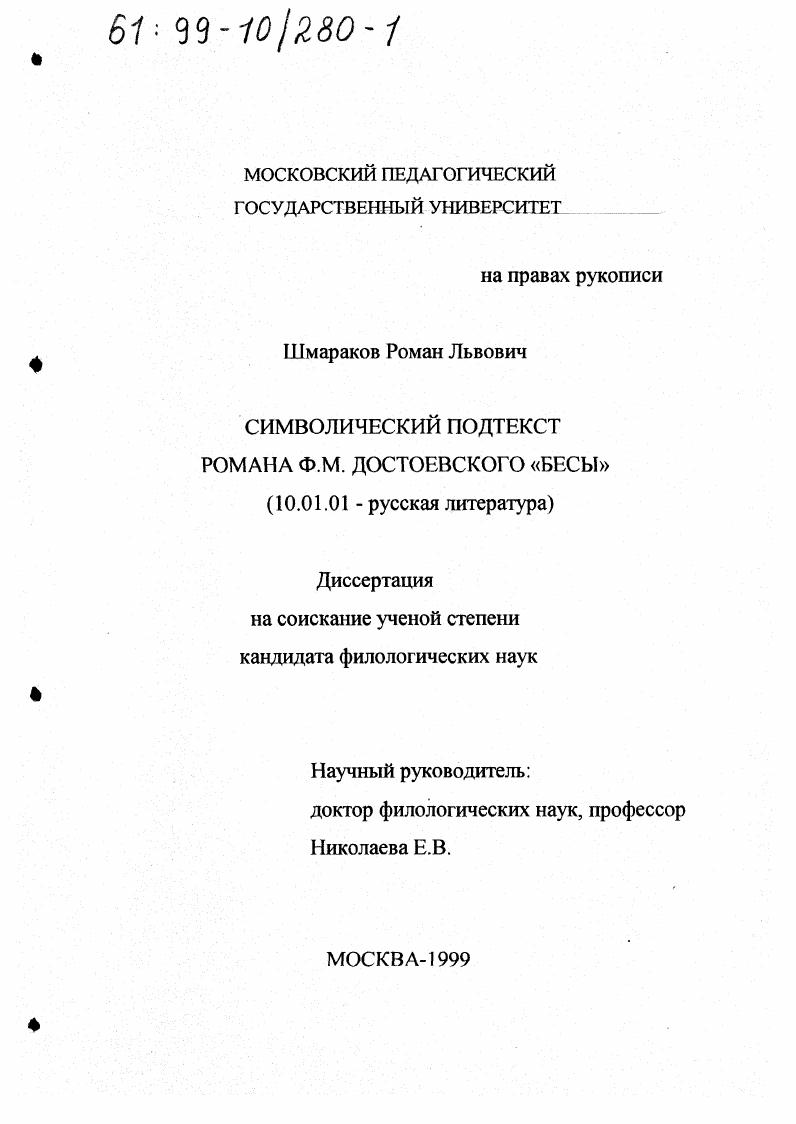
- Автор:
Шмараков, Роман Львович
- Шифр специальности:
10.01.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
1999
- Место защиты:
Москва
- Количество страниц:
264 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
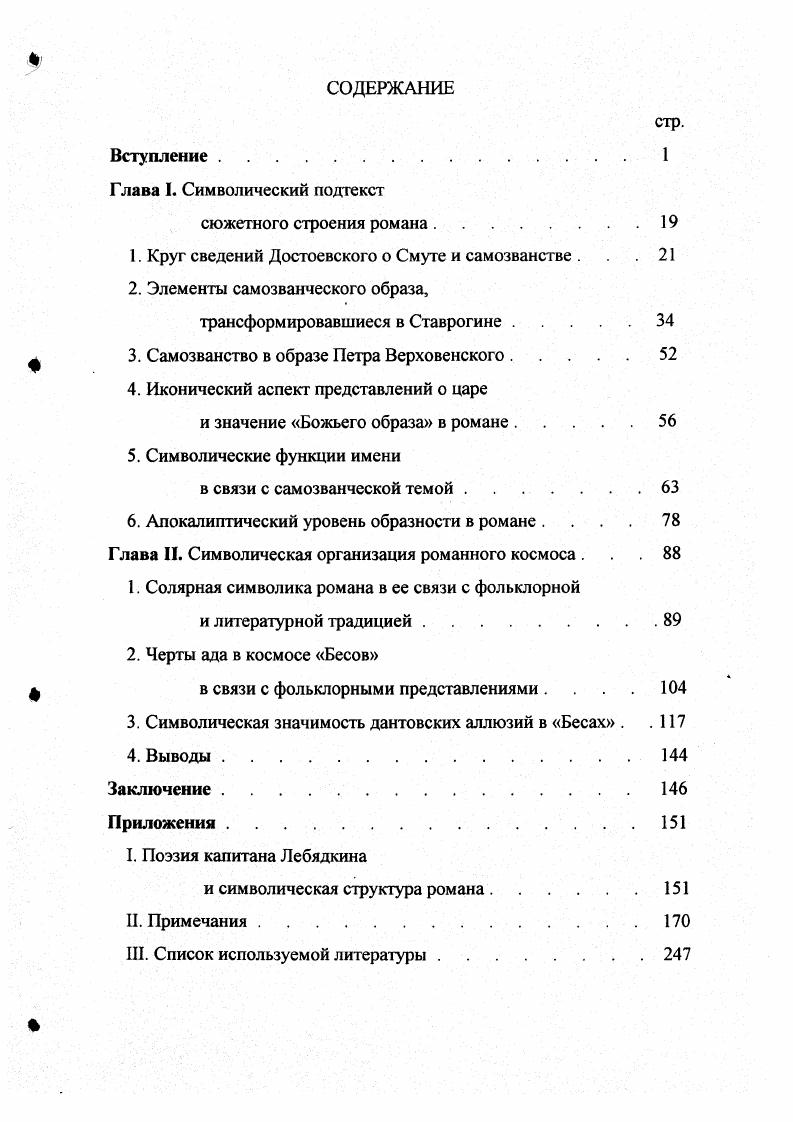
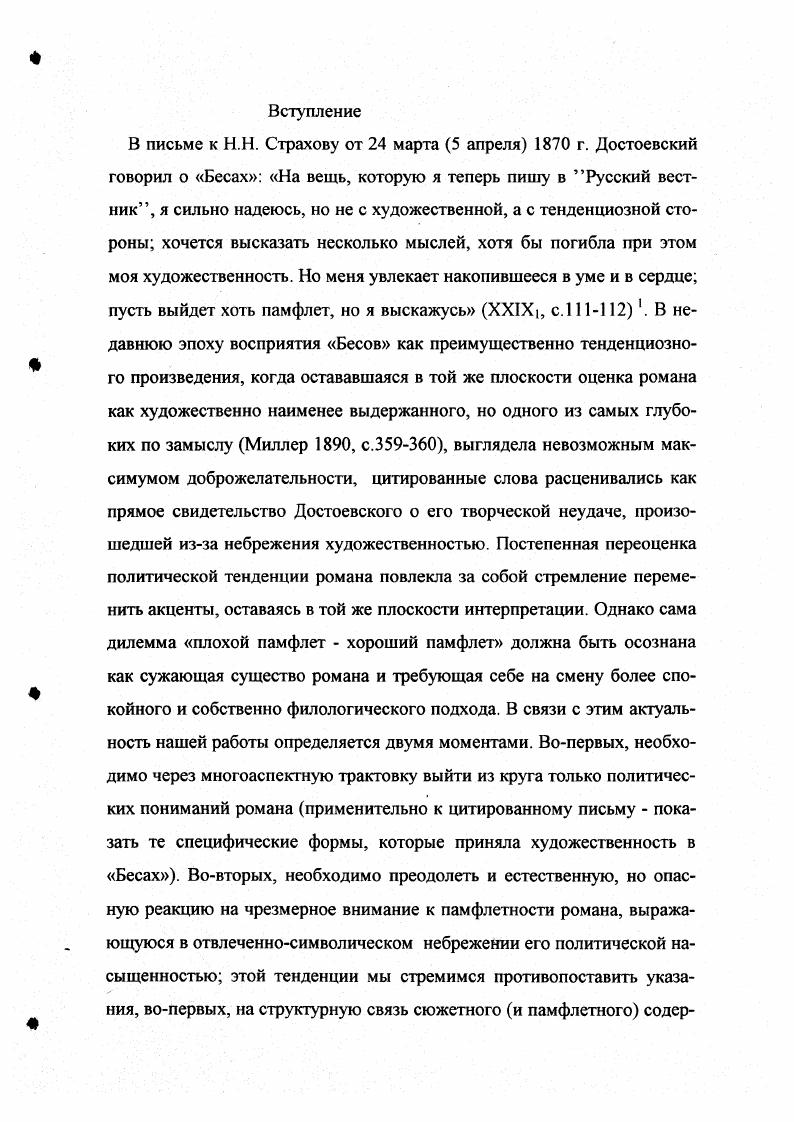
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Репрезентация концепта священнослужитель в прозе А.П. Чехова | Логачева, Оксана Ивановна | 2017 |
| Поэтика не-бытия в русской литературе 1900-1920-х гг. | Севастьянова, Валерия Станиславовна | 2012 |
| Художественная природа сказки П. П. Ершова "Конек-Горбунок" | Фролова, Любовь Анатольевна | 2002 |