Творчество И. А. Бунина и художественные принципы модернизма
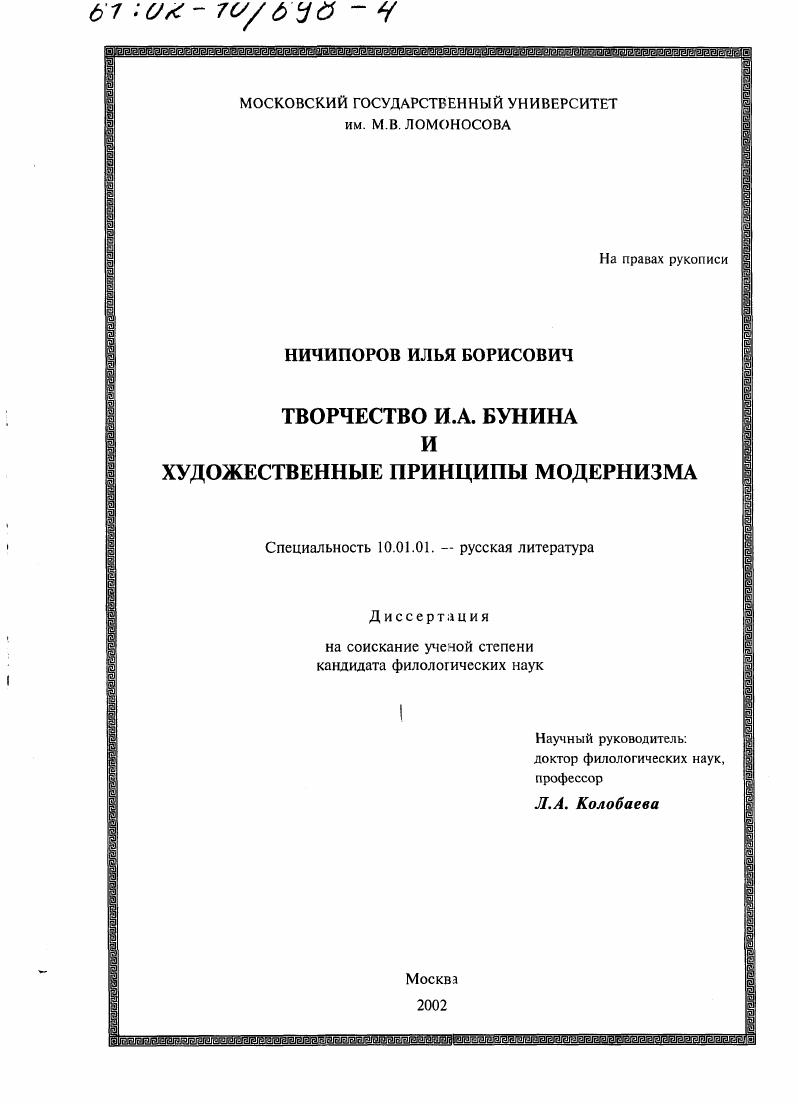
- Автор:
Ничипоров, Илья Борисович
- Шифр специальности:
10.01.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2002
- Место защиты:
Москва
- Количество страниц:
187 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
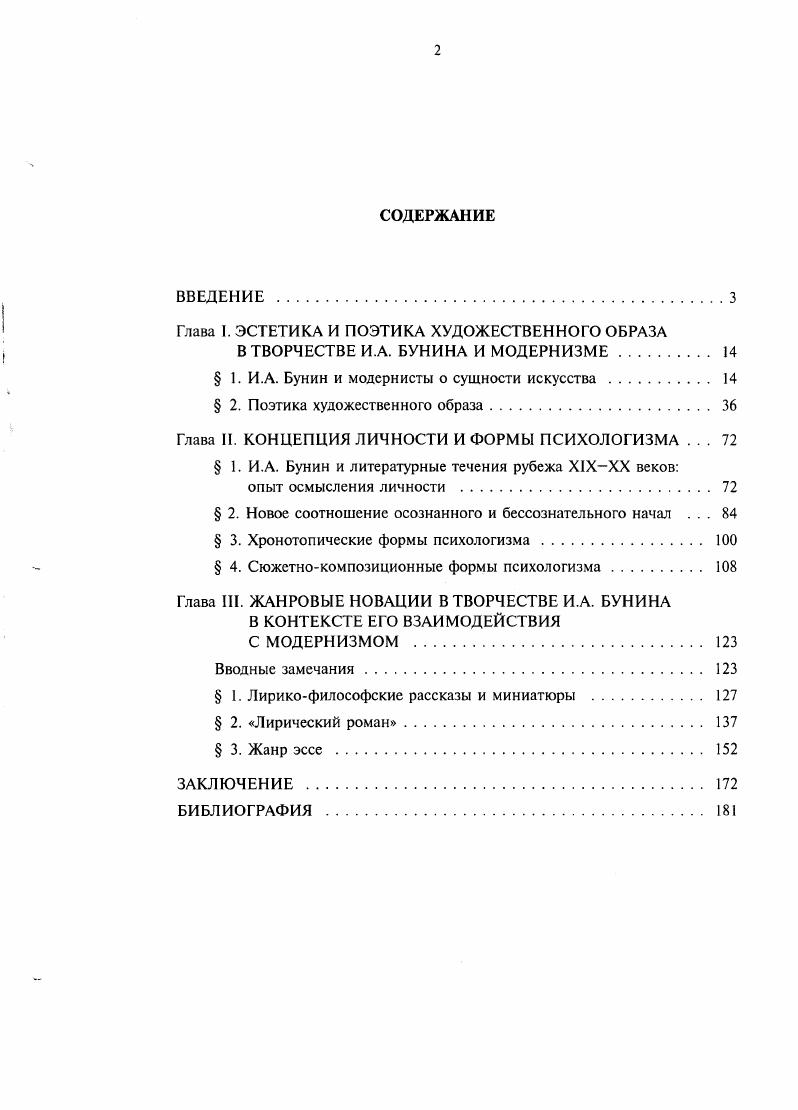
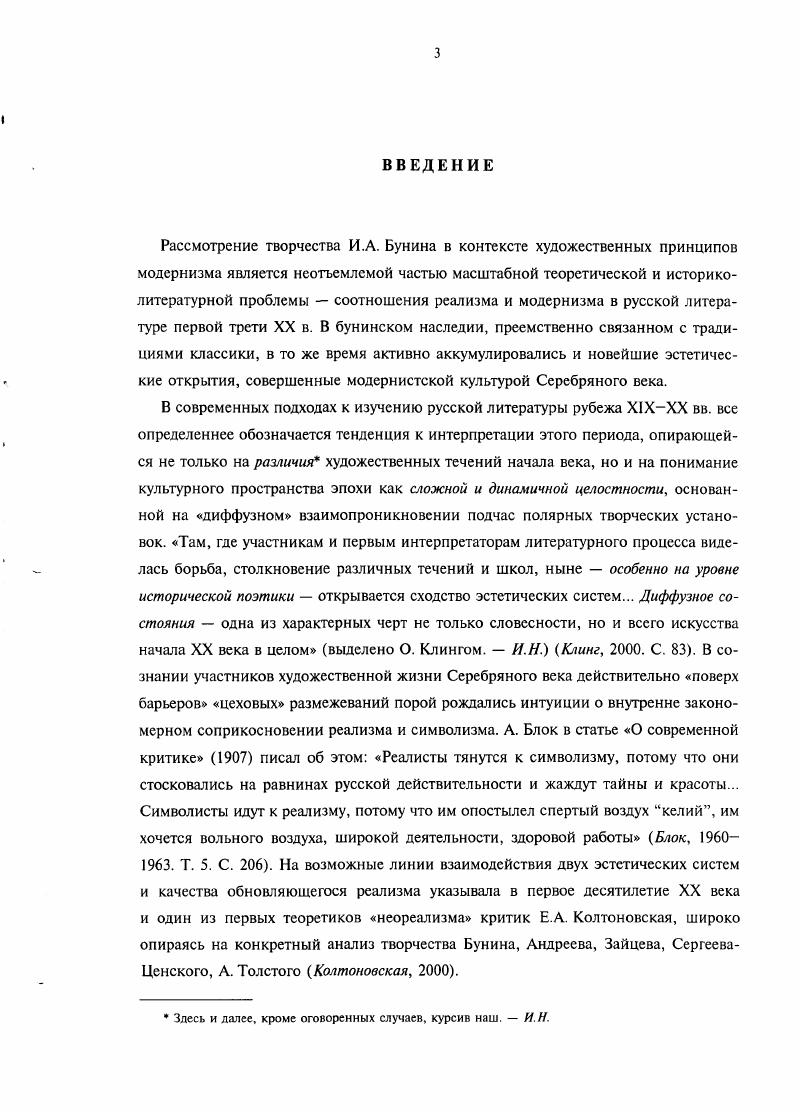
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Идейно-художественные особенности воплощения "мысли семейной" в романах Л.Н. Толстого "Анна Каренина" и М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" | Проскурина, Татьяна Дмитриевна | 2001 |
| Полурифмованный стих в русской поэзии первой половины XIX века | Дубровская, Лариса Дмитриевна | 1999 |
| Принципы характерологии в творчестве А.К. Толстого : "Князь Серебряный", драматическая трилогия | Григорьева, Наталья Геннадьевна | 2005 |