Эстетико-онтологические основания раннего творчества Ф. М. Достоевского
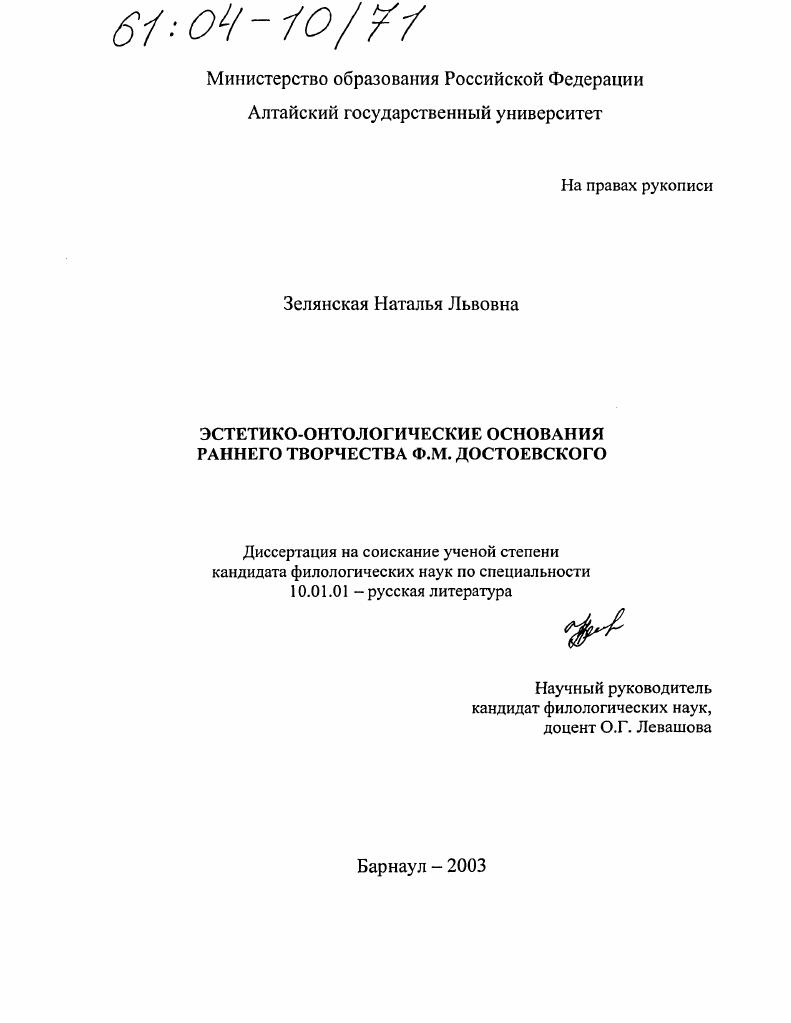
- Автор:
Зелянская, Наталья Львовна
- Шифр специальности:
10.01.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2003
- Место защиты:
Барнаул
- Количество страниц:
174 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
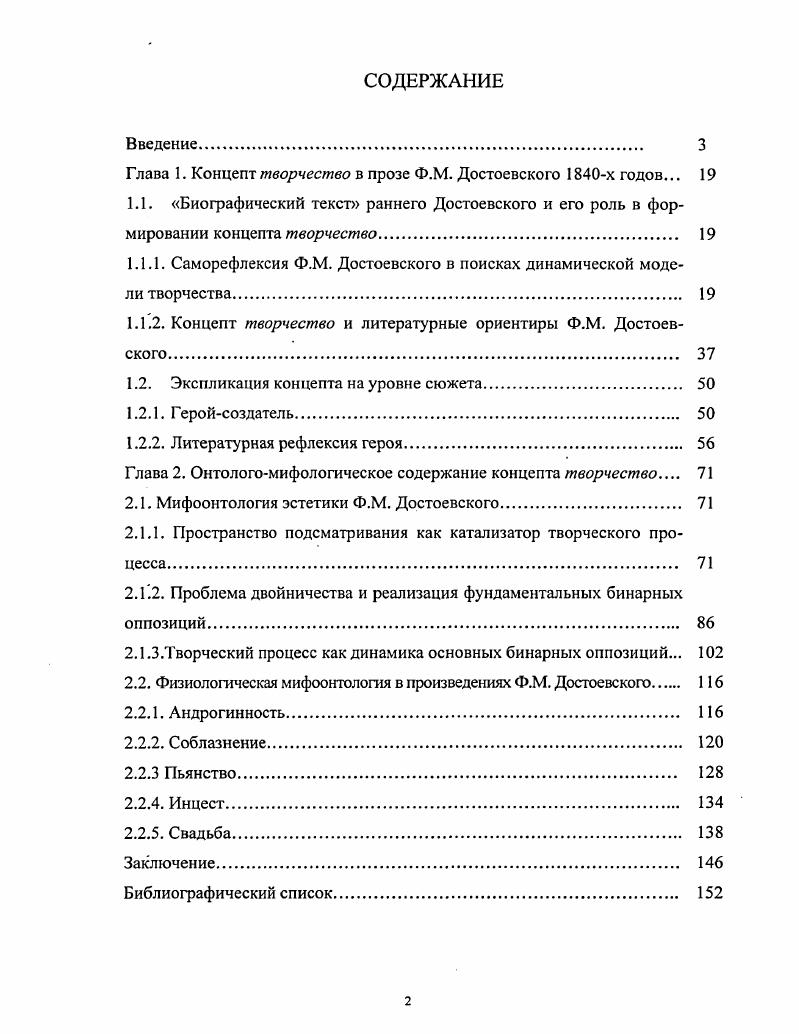
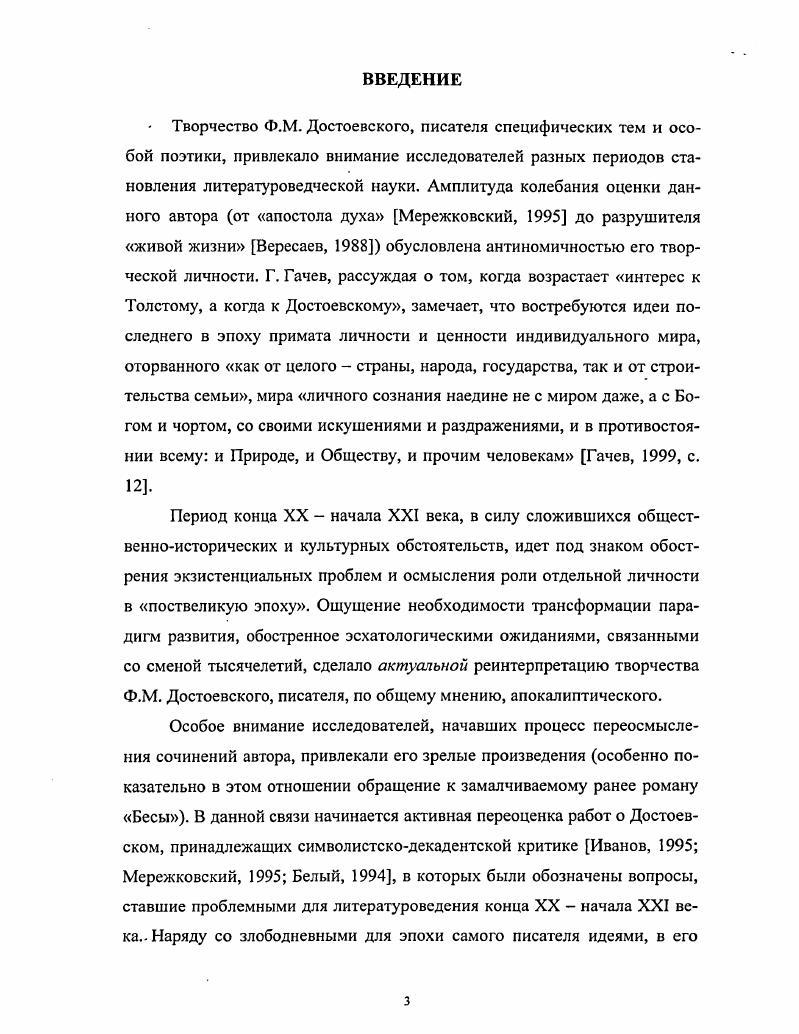
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Произведения П.Д. Боборыкина "Китай-город" и В.А. Гиляровского "Москва и москвичи" в контексте традиций русского художественного натурализма | Юсяев, Алексей Сергеевич | 2014 |
| Роман Н.Е. Вирты "Одиночество": историко-литературный контекст и поэтика | Костылева, Светлана Юрьевна | 2004 |
| Формирование русского литературоведения как науки (конец XVI - начало XIX вв.) | Курилов, Александр Сергеевич | 1982 |