"Смеховое слово" в отечественной "малой прозе" 20-х годов XX века : И.Э. Бабель, М.М. Зощенко, М.А. Булгаков, П.С. Романов
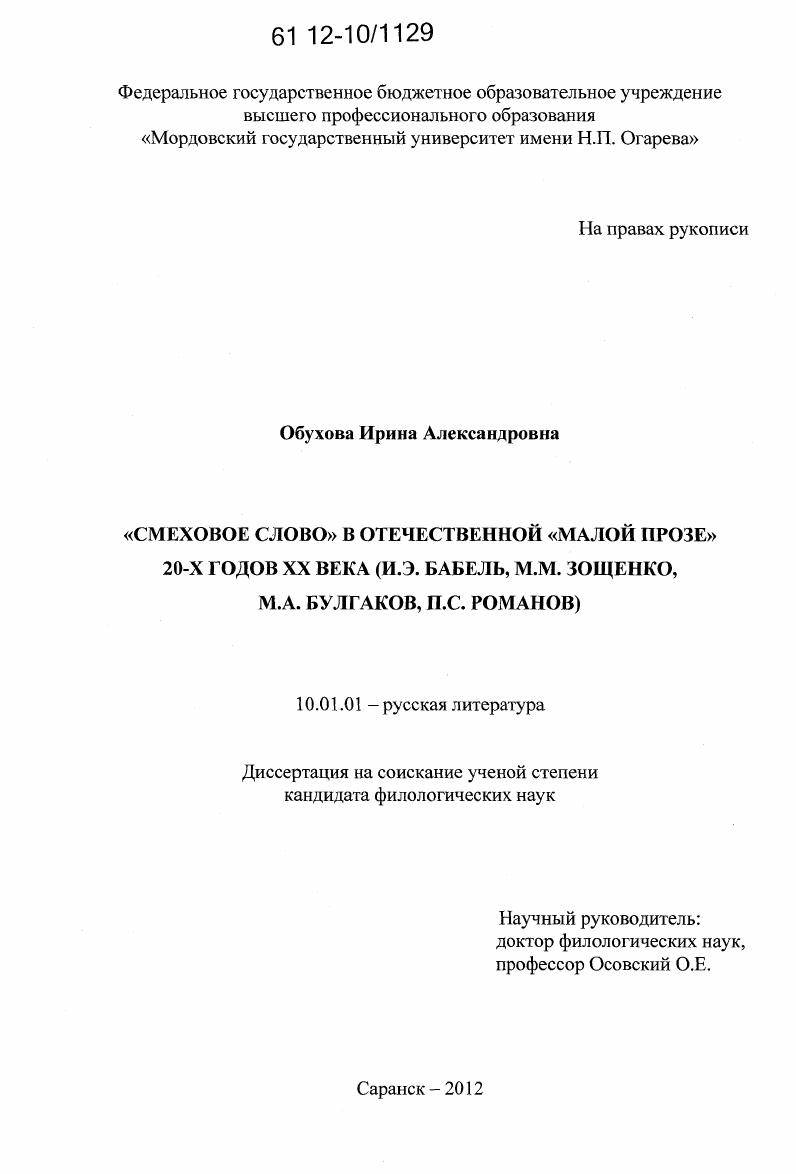
- Автор:
Обухова, Ирина Александровна
- Шифр специальности:
10.01.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2012
- Место защиты:
Саранск
- Количество страниц:
185 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
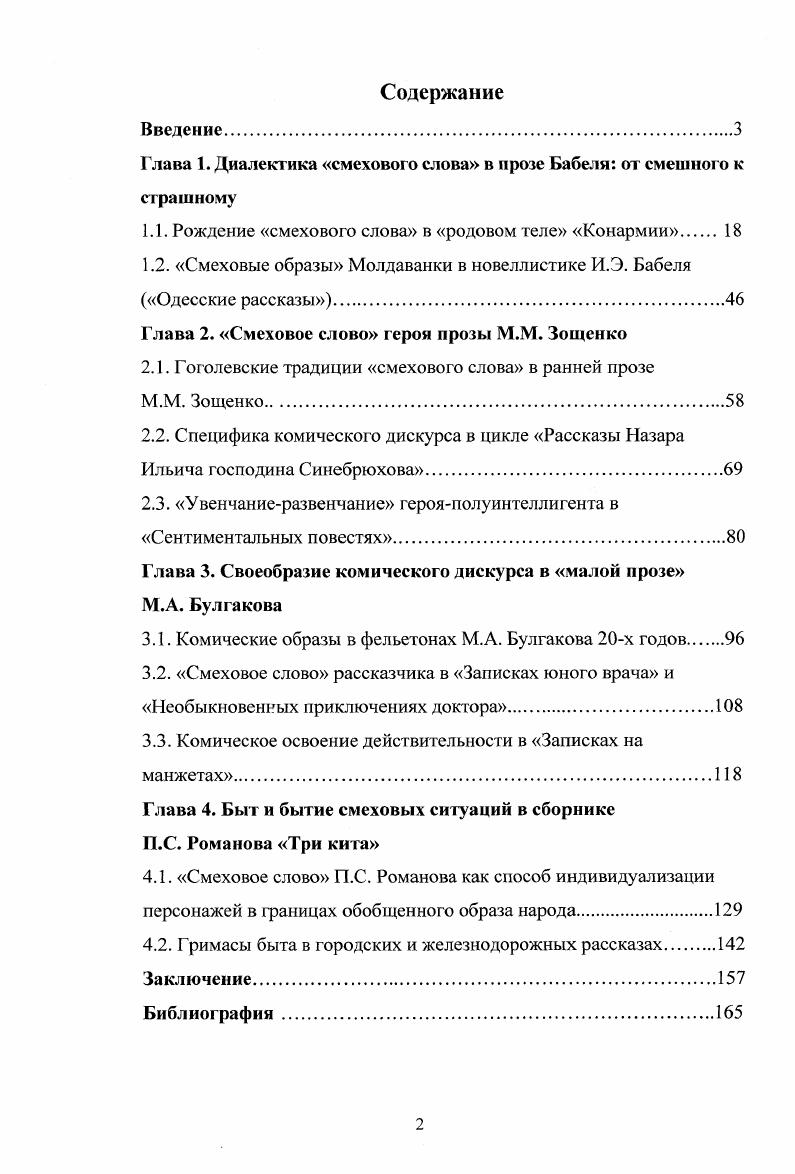
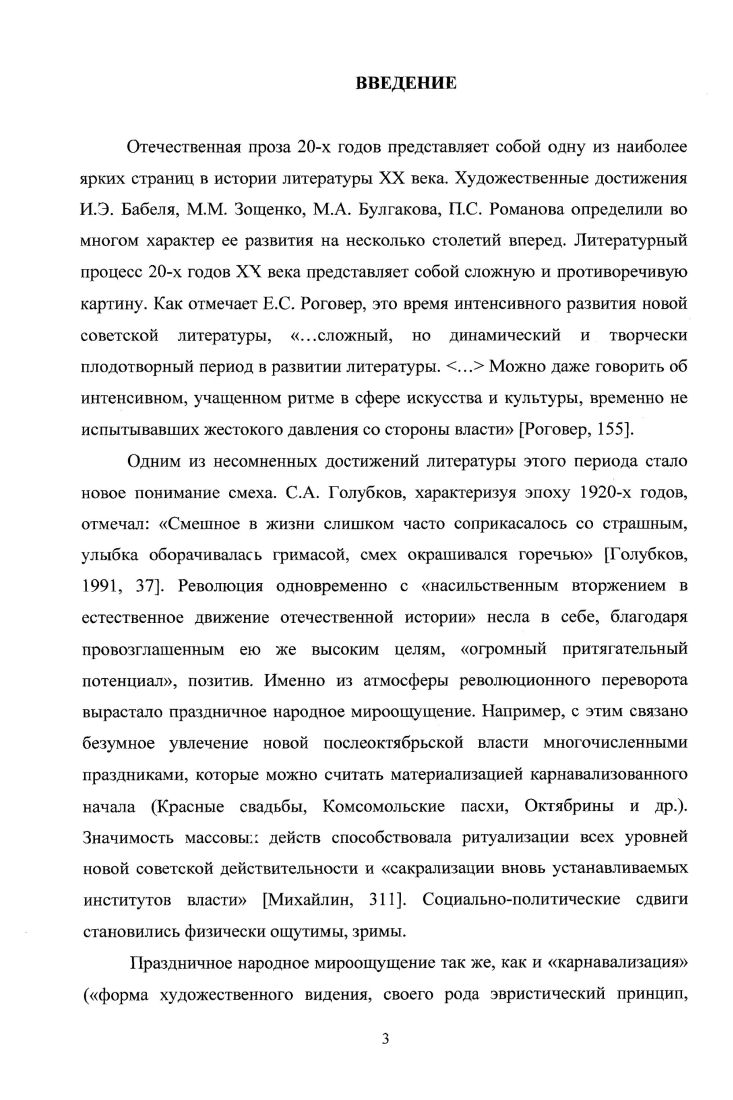
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Художественная система Чехова: генетический и типологический аспекты | Чудаков, Александр Павлович | 1982 |
| Мифологемы воды и воздуха в творчестве Иосифа Бродского | Александрова, Анна Алексеевна | 2007 |
| Символизм как текст культуры в творческом сознании Анны Ахматовой | Смирнова, Наталья Юрьевна | 2004 |