Лексические средства отрицания в тувинском языке в сопоставлении с южносибирскими тюркскими, монгольским и древнетюркским языками
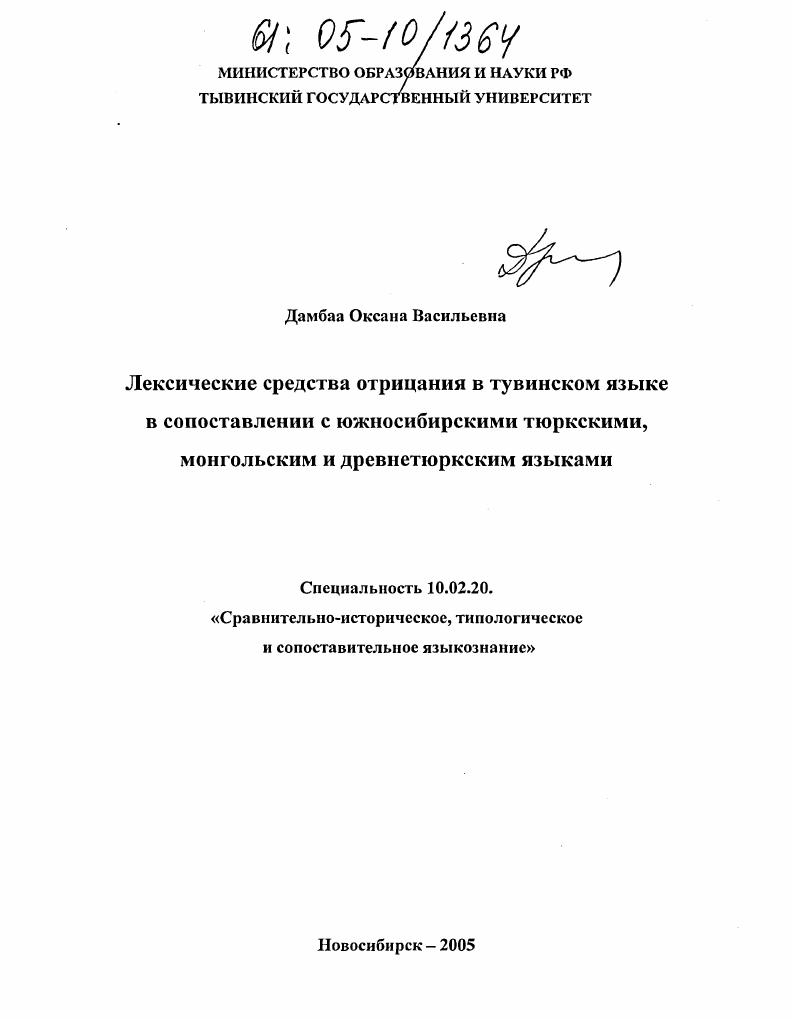
- Автор:
Дамбаа, Оксана Васильевна
- Шифр специальности:
10.02.20
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2005
- Место защиты:
Новосибирск
- Количество страниц:
170 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
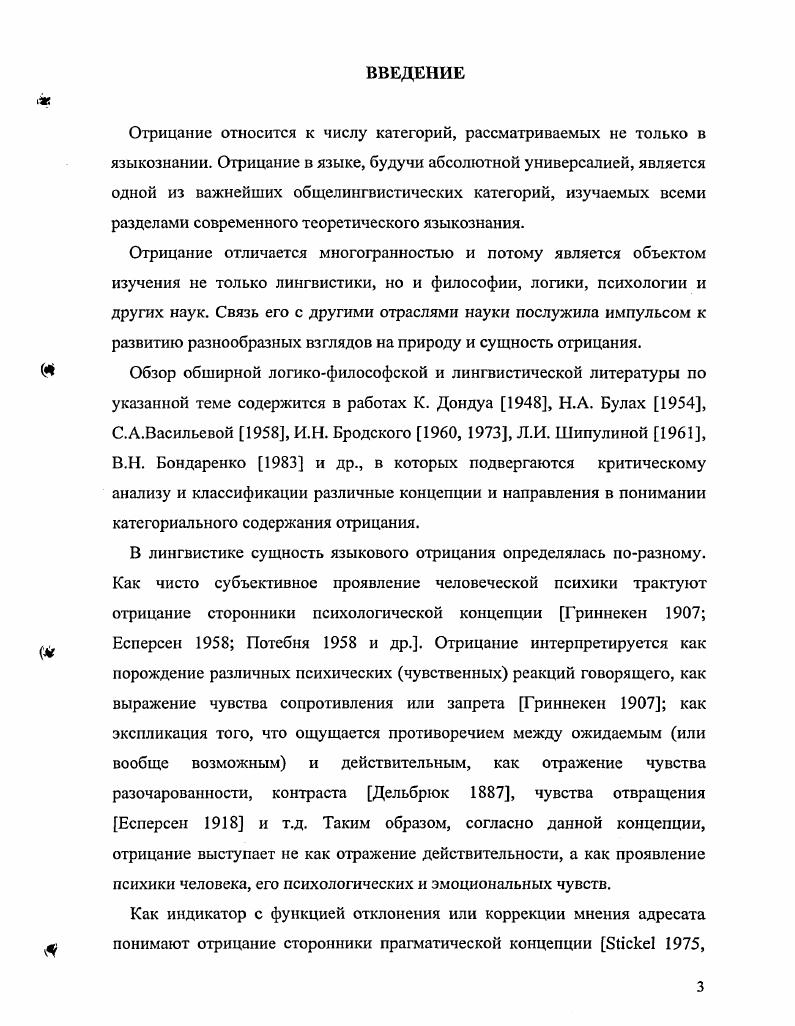
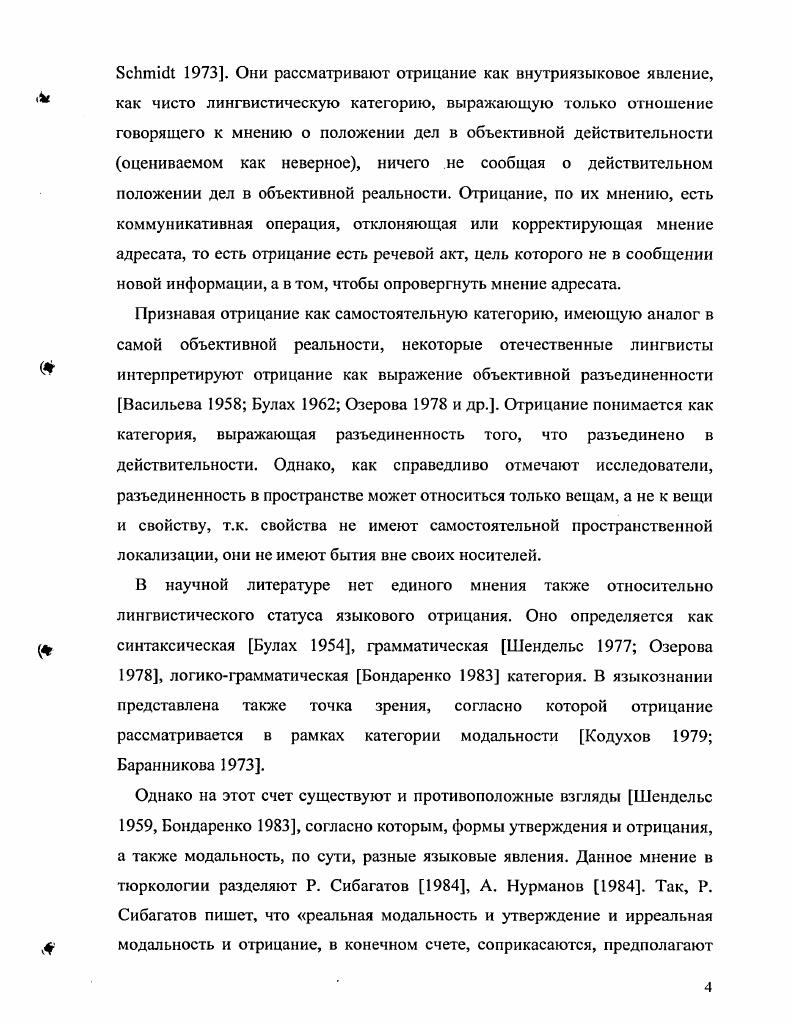
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Афористичность как средство языкового воздействия в политическом дискурсе : на материале выступлений американских, британских и российских политиков | Бажалкина, Наталья Сергеевна | 2012 |
| Типология семантических соответствий в системах специальных номинаций (на материале наименований военной форменной одежды в русском и французском языках) | Корягина, Марина Васильевна | 2009 |
| Лексико-семантические особенности урбанонимов в сравнительно-сопоставительном плане : на материале таджикского и русского языков | Ибрагимова, Гульнора Хайдарбаевна | 2007 |