Ирония как стилеобразующее начало в романе Ф. Сологуба "Мелкий бес"
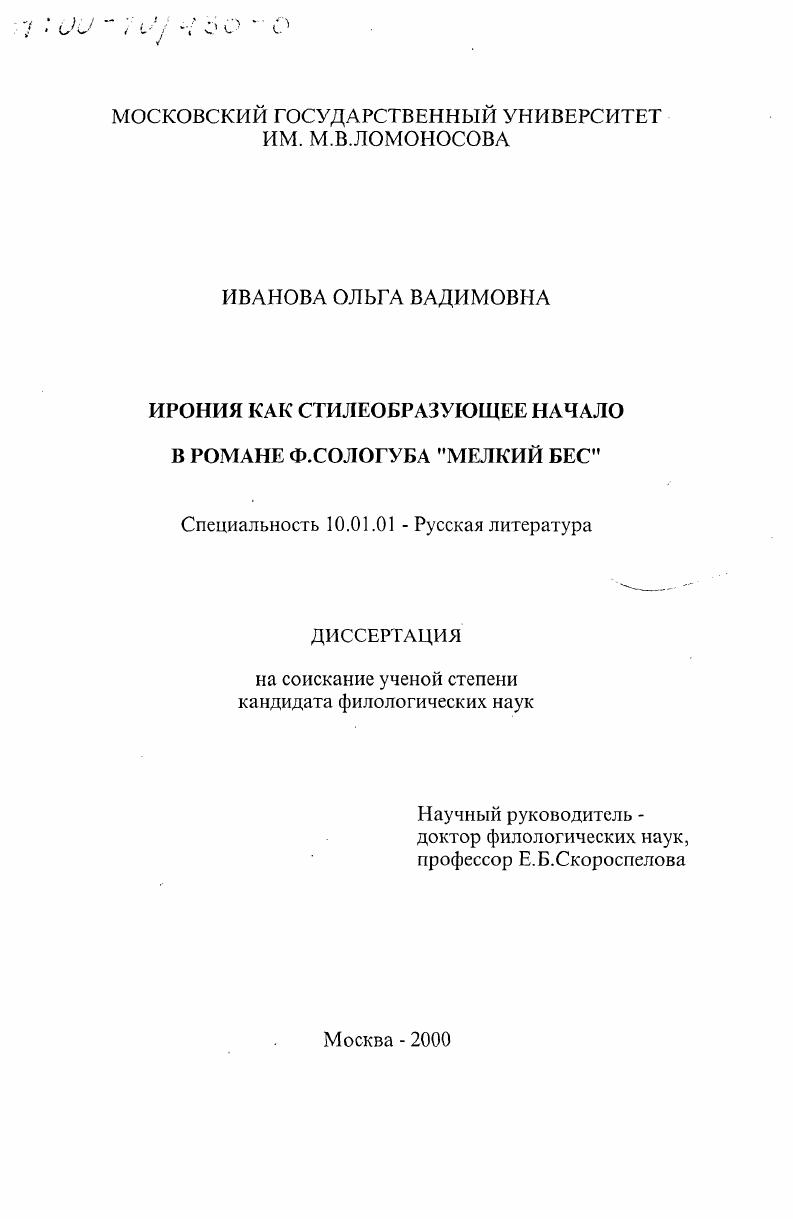
- Автор:
Иванова, Ольга Вадимовна
- Шифр специальности:
10.01.01
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2000
- Место защиты:
Москва
- Количество страниц:
210 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
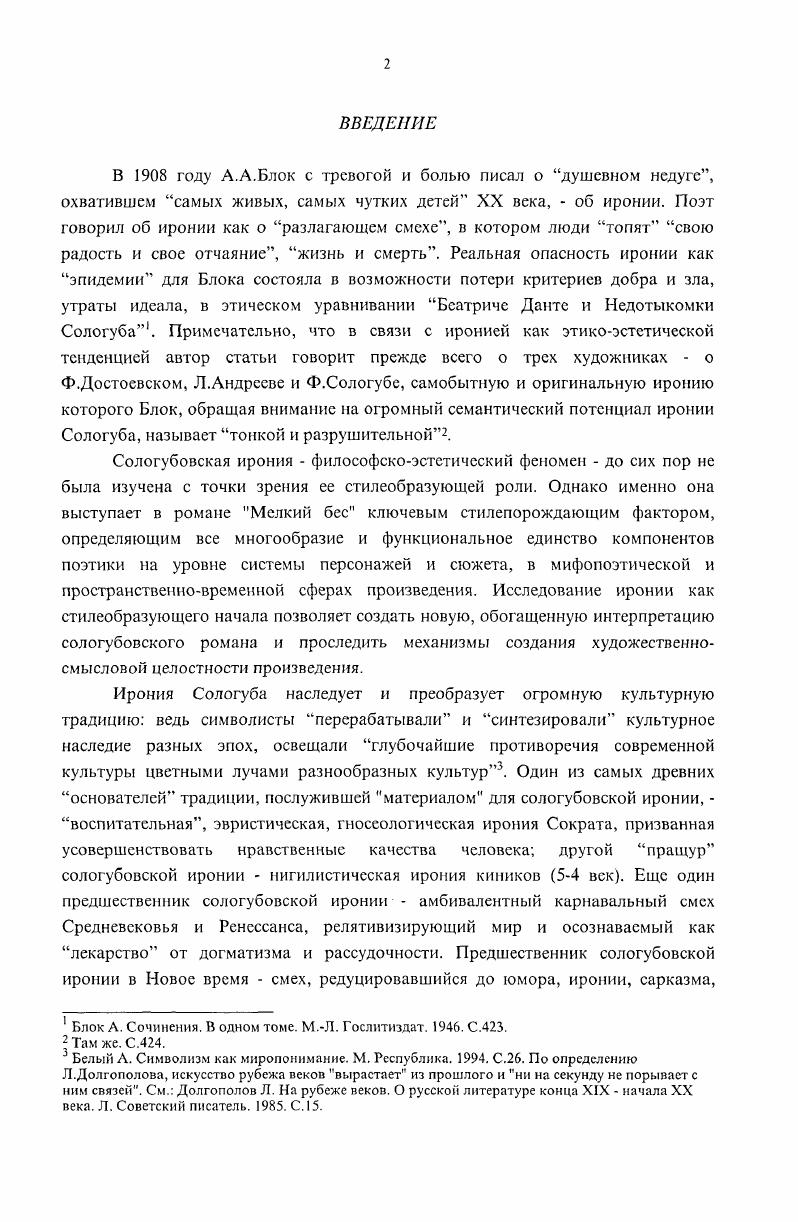
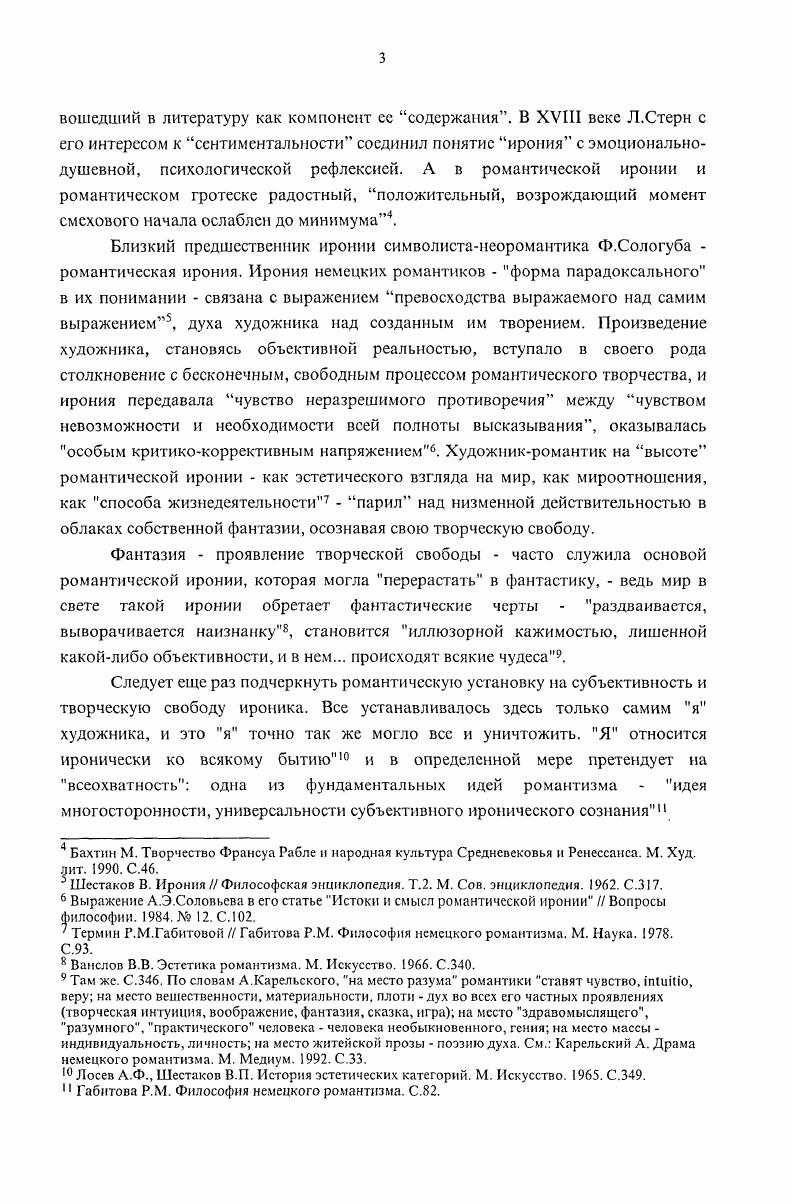
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| "Новый летописец" как памятник литературы первой трети ХVII века | Зотов, Александр Михайлович | 1999 |
| Петербургский миф в русской прозе 1990-2000-х годов | Повх, Юлия Александровна | 2011 |
| Неомифологизм в структуре романов В. Пелевина | Дмитриев, Алексей Вячеславович | 2002 |