Традиции русской поэзии ХVIII - ХХ вв. в творчестве И. А. Бродского
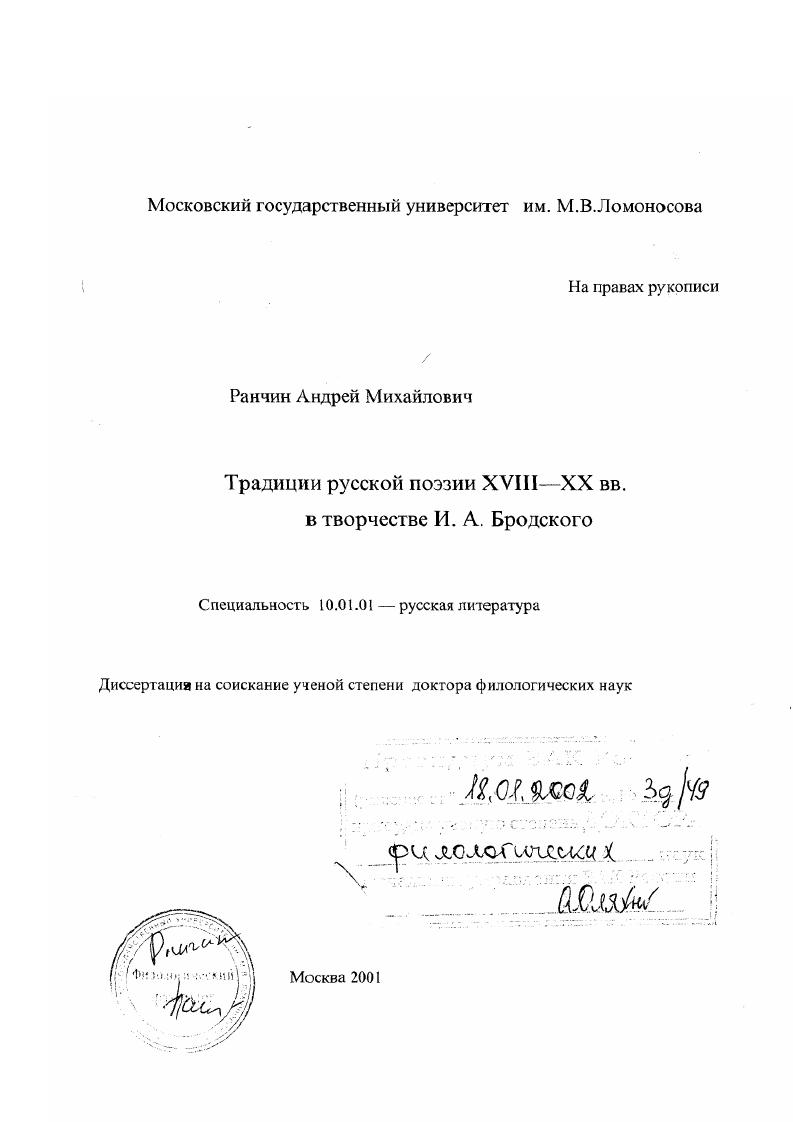
- Автор:
Ранчин, Андрей Михайлович
- Шифр специальности:
10.01.01
- Научная степень:
Докторская
- Год защиты:
2001
- Место защиты:
Москва
- Количество страниц:
335 с. + Прил. (c.336-564)
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
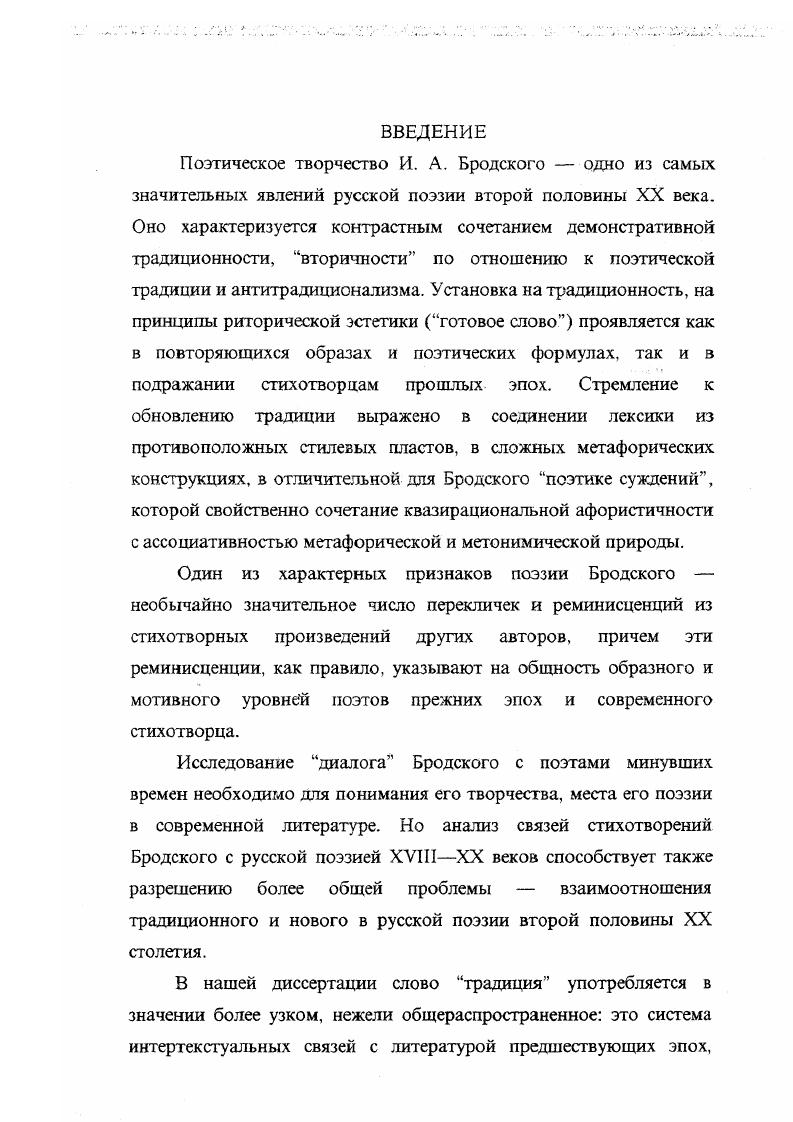
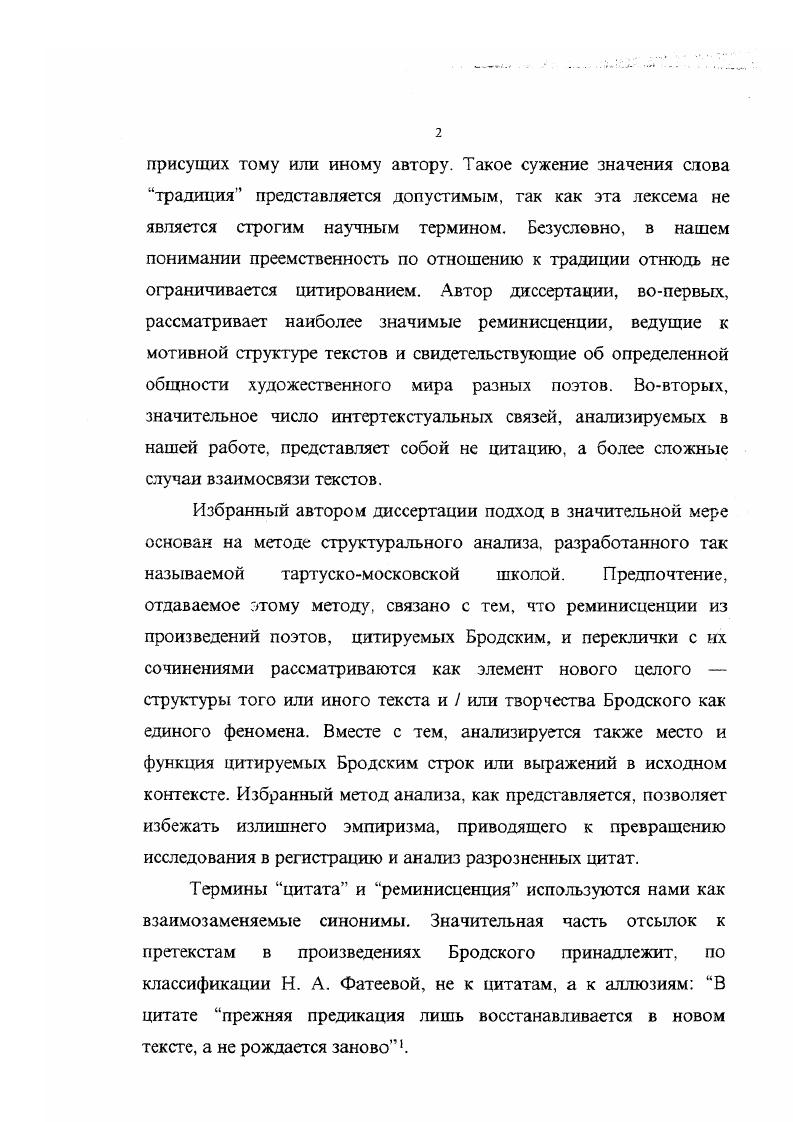
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Художественная метафизика Ф.М. Достоевского в творческой рефлексии китайских писателей 1920-1930-х гг. : Лу Синь, Мао Дунь, Юй Дафу | Инь Лу | 2019 |
| "Житие Великого грешника" - трансформация замысла, жанровое своеобразие, роль в творческой эволюции Ф. М. Достоевского | Сайченко, Валерия Викторовна | 2002 |
| Автор в структуре лирических произведений И. Анненского | Боровская, Анна Александровна | 2004 |