Философская программа М. М. Бахтина и смена парадигмы в гуманитарном познании
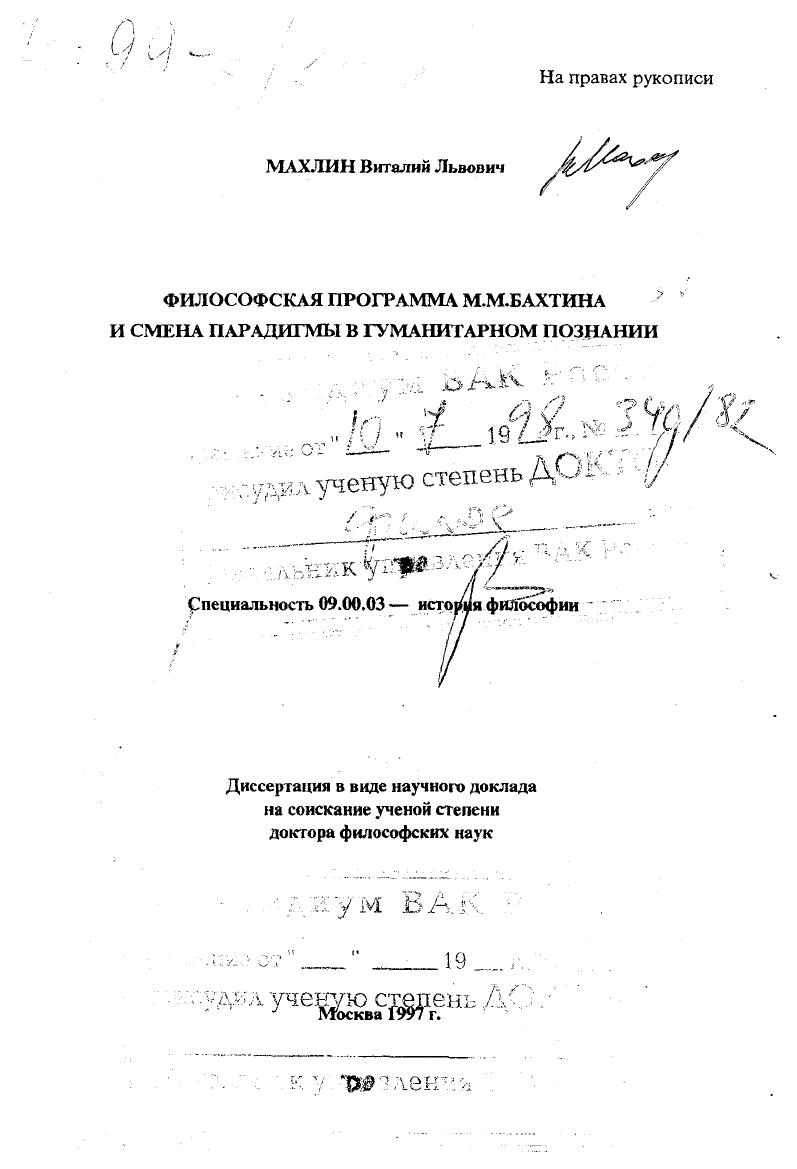
- Автор:
Махлин, Виталий Львович
- Шифр специальности:
09.00.03
- Научная степень:
Докторская
- Год защиты:
1997
- Место защиты:
Москва
- Количество страниц:
53 с.; 20х15 см
Стоимость:
700 р.499 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
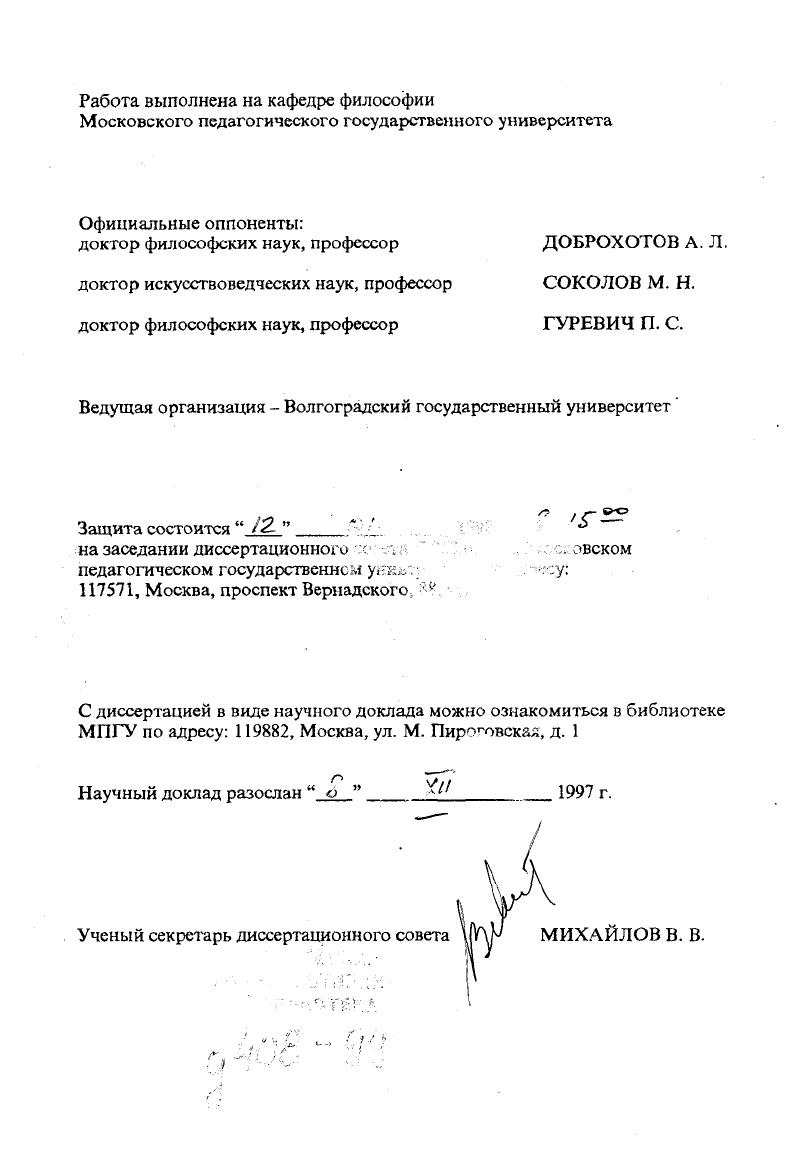
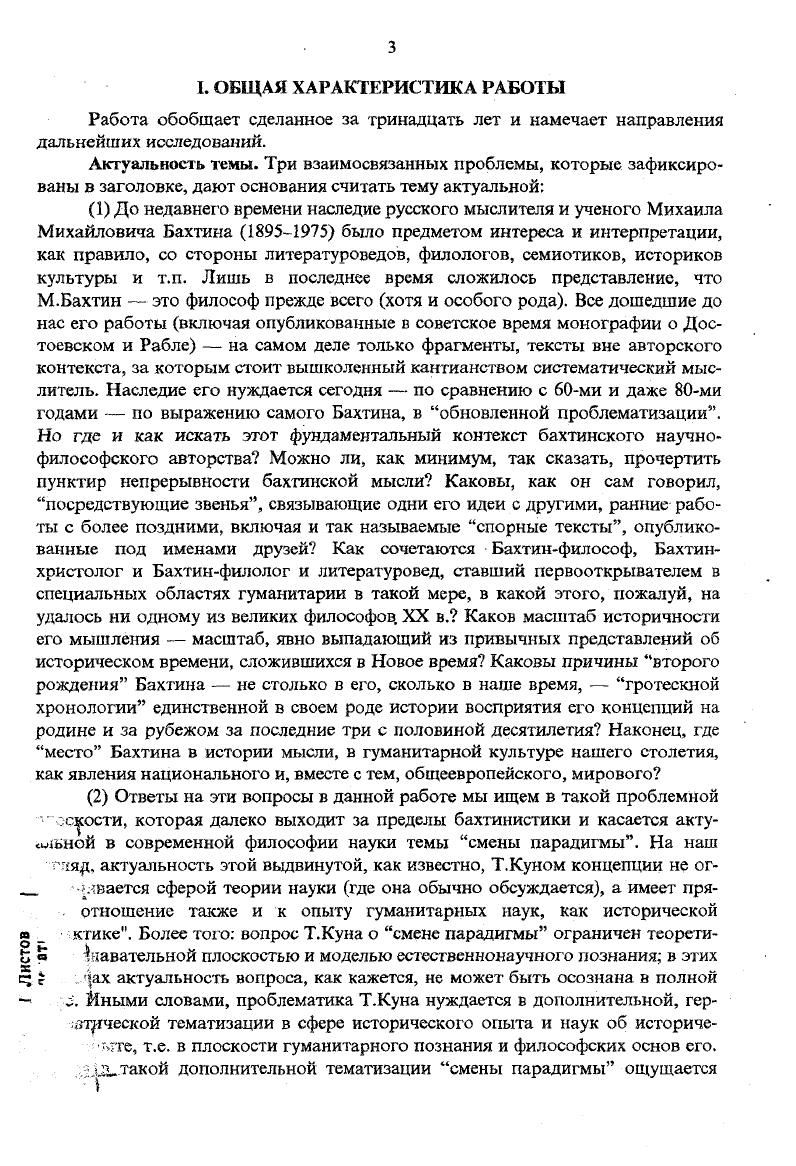
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Работа обобщает сделанное за тринадцать лет и намечает направления дальнейших исследований.
Актуальность темы. Три взаимосвязанных проблемы, которые зафиксированы в заголовке, дают основания считать тему актуальной:
(1) До недавнего времени наследие русского мыслителя и ученого Михаила Михайловича Бахтина (1895-1975) было предметом интереса и интерпретации, как правило, со стороны литературоведов, филологов, семиотиков, историков культуры и т.п. Лишь в последнее время сложилось представление, что М.Бахтин — это философ прежде всего (хотя и особого рода). Все дошедшие до нас его работы (включая опубликованные в советское время монографии о Достоевском и Рабле) — на самом деле только фрагменты, тексты вне авторского контекста, за которым стоит вышколенный кантианством систематический мыслитель. Наследие его нуждается сегодня — по сравнению с 60-ми и даже 80-ми годами — по выражению самого Бахтина, в “обновленной проблематизации”. Но где и как искать этот фундаментальный контекст бахтинского научнофилософского авторства? Можно ли, как минимум, так сказать, прочертить пунктир непрерывности бахтинской мысли? Каковы, как он сам говорил, “посредствующие звенья”, связывающие одни его идеи с другими, ранние работы с более поздними, включая и так называемые “спорные тексты”, опубликованные под именами друзей? Как сочетаются Бахтин-философ, Бахтин-христолог и Бахтин-филолог и литературовед, ставший первооткрывателем в специальных областях гуманитарии в такой мере, в какой этого, пожалуй, на удалось ни одному из великих философов, XX в.? Каков масштаб историчности его мышления — масштаб, явно выпадающий из привычных представлений об историческом времени, сложившихся в Новое время? Каковы причины “второго рождения” Бахтина — не столько в его, сколько в наше время, — “гротескной хронологии” единственной в своем роде истории восприятия его концепций на родине и за рубежом за последние три с половиной десятилетия? Наконец, где “место” Бахтина в истории мысли, в гуманитарной культуре нашего столетия, как явления национального и, вместе с тем, общеевропейского, мирового?
(2) Ответы на эти вопросы в данной работе мы ищем в такой проблемной оскости, которая далеко выходит за пределы бахтинистики и касается акту-
<иГЬной в современной философии науки темы “смены парадигмы”. На наш ' 'тяд, актуальность этой выдвинутой, как известно, Т.Куном концепции не ог- -мвается сферой теории науки (где она обычно обсуждается), а имеет пря-
отношение также и к опыту гуманитарных наук, как исторической g _ ктике". Более того: вопрос Т.Куна о “смене парадигмы” ограничен теорети-
о 5 1навательной плоскостью и моделью естественнонаучного познания; в этих
с; j fax актуальность вопроса, как кажется, не может быть осознана в полной
J. Йными словами, проблематика Т.Куна нуждается в дополнительной, героической тематизации в сфере исторического опыта и наук об историче-ыте, т.е. в плоскости гуманитарного познания и философских основ его.
* try такой дополнительной тематизации “смены парадигмы” ощущается
сегодня повсеместно, особенно в отечественной философии и методологии гуманитарных наук. Это объясняется, очевидно, тем, что по не относящимся к науке причинам отечественная философия и гуманитария не сумели вполне реализовать те возможности, которые, по-видимому, созрели в России в начале XX в. Приходится констатировать, что в советской философии, ориентировавшейся, явным образом, на анахроническую и догматическую теорию познания естественнонаучного образца, — “смена парадигмы”, как факт и фактор исторического бытия-события, социокультурной действительности жизненного мира (а отсюда научного сознания и познания), не могла быть в подлинном смысле осознана и тематизирована. Поэтому основное событие в западной (прежде всего немецкой) философии XX в. — “переход от мира науки к миру жизни”1 в самой философской науке — остается почти вовсе еще не понятым у нас в своих мотивациях, основаниях и результатах. С другой стороны, процесс смены парадигмы не мог не затронуть и отечественные гуманитарные науки: как и на Западе, у нас в пореволюционные годы произошел (давно зревший) раскол между гуманитарными науками и философией — “ихним Гейстом”, как иронизировали между собою русские формалисты. То была относительно оправданная защитная реакция специальных наук против теоретизированных (в том числе и научных) притязаний Разума и Духа в самих “науках о духе”, оберегавших специфику своего предмета. И в результате смена парадигмы, определившая, в значительной мере, пути развития как философских, так и иных гуманитарных наук, выразилась в том, что единство гуманитарно-филологического мышления (и, соответственно, гуманистического сознания), по точной констатации С.С.Аверинцева , “было взорвано во всех измерениях”2. Позитивные моменты “взрыва” имели очевидные резоны и выгоды; негативные же последствия должны были сказаться не сразу; но сегодня налицо скорее они. Бахтин оценил ситуацию в момент “взрыва”, притом в полном объеме. Здесь, логически и исторически, место того “и”, которое соединяет в названии данного исследования проблему научно-философской программы М.Бахтина с проблемой “смены парадигмы” и различными объективациями ее, прежде всего в “поворотах” философии — феноменологическом, экзистенциальном, онтологическом, диалогическом, лингвистическом, герменевтическом и т.п.
(3) Актуальной представляется предпринятая в этом исследовании двусторонняя попытка реконструировать философскую программу Бахтина на путеводной нити “перехода”, о котором говорит Гадамер, а сам этот парадигматический сдвиг или переход рассмотреть как имманентную логику бахтинского авторства, как программу. Наследие Бахтина, освобожденное от дурной модернизации (если угодно, “постмодернизации”), на наш взгляд, обладает, при всей своей внешней незавершенности и недоговоренности, мощным потенциалом “собирания” исторической действительности мира, сознания и познания. В ситуации сегодняшнего философского и общекультурного кризиса, как
1 Гадамер Г.-Г. К русским читателям// Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., “Искусство”, 1991. С.7.
2 Аверинцев С.С. Филология // “Краткая литературная энциклопедия”, М., “Сов. энциклопедия”, 1972. Кол. 979.
Возможность такого поворота у Бахтина обусловлена характерной для всего его творчества “карнавальной” тенденцией к обнаружению внутренней, “высшей” социальности в по видимости “закрытом”, замкнутом на себя тварном бытии, — тенденцией к размыканию “тел смысла” (ЭСТ 334). В отличие от идеализма (и романтизма) Бахтин даже “внутреннее” (немецкая “Innerlichkeit”) понимает не натуралистически (как якобы замкнутое на себя, автономное “внутреннее бытие”), но и не как отрицание (“стирание”) внутреннего, индивидуального бытия, как в материализме и его постсовременном превращении — “деконструкции”. Нет, “тело смысла” живет не внутри, а изнутри (из своего нутра, овнешняясь), не в себе, а из себя; оно поэтому уловимо (объективно) в “исхождении из себя” (ФП 127), на “стыках и пересечениях” (ЭСТ 281) с кем-то или чем-то “другим” (т.е. на границе, на “пороге”). Причастное овнешнение, или внутренняя социальность, — это исходный программный пункт всех без исключений концепций Бахтина. Уникальность и “единственность”, по Бахтину, уникальна и единственна не потому, что она натурально-автономно “есть” (как сущее). Сущность “единственности” — не в изоляции, но и не в объективации, но в активной “причастности”, “исхождении из себя”. Непричастное присутствие в событии, по Бахтину, онтологически невозможно — в отличие от “вненаходимости (но не индиффирентизма: )”(ВЛЭ 32), причастной вненаходи-мости. Единственность участно-заинтересована и постольку — энергийна: моя уместность больше моего же места. Это “больше” выводит мое бытие — “течение жизни смертного человека” (ФП 137) — за пределы только теоретически возможного или эстетически самодовлеющего бытия. Причастный (по более поздней терминологии: “диалогический”) характер мысли, слова, молчания, “жеста сознания” — человеческой жизни в целом — и есть условие возможности архитектонически-систематического “укоренения” всякого поступка и всякого высказывания уже не в теоретизированной конструкции, которую Бахтин три десятилетия спустя после программного понятия “теоретизм” назовет (имея в виду современную ему лингвистику) “научной фикцией” (ЭСТ 246), а в реальном, сотворенном, архитектонически упорядоченном мире событийно взаимосвязанных, взаимно ограниченных и взаимно “отвечающих” сознаний, “голосов” и “правд”. В более поздних работах Бахтин не употребляет слово “архитектоника”; в своей философии слова он говорит (как под именем В.Н.Волошинова, так и от собственного имени) о “внесловесной действительности (ситуации)” (ЭСТ 262), имея в виду конкретно-историческое “кругозорное” единство со-вместного мира-события, как условия возможности высказывания, действия, “диалога”. К программному замыслу социальной онтологии ближе терминология книги о Достоевском: здесь коррелятом понятия “архитектоника” выступает — в поодчеркнутом противопоставлении понятию “духа” — термин “социальная атмосфера” (ППД 37). Сказанное дает основание утверждать, что программным коррелятом более позднего понятия “диалог” — притом в аспекте архитектонической фактичности “целого” — нужно признать у раннего Бахтина понятие “причастной автономии — или -автономной причастности” (ВЛЭ 25) любого “единственного” явления. В качестве единственного оно может быть осознано (и самосознаваться) только в экс-центрической событийности своей,
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Исторический метод исследования и изложения в работах К. Маркса периода обобщения опыта революций 1848-1849 гг. | Братникова, Ирина Борисовна | 1985 |
| Теория чувственных данных как концепция аналитической эпистемологии | Фролов, Константин Геннадьевич | 2016 |
| Предпосылки становления и развитие концепции "научной философии" Казимира Твардовского | Ильина, Юлия Андреевна | 2009 |