Автобиографическая проза М.И. Цветаевой : Поэтика, жанровое своеобразие, мировидение
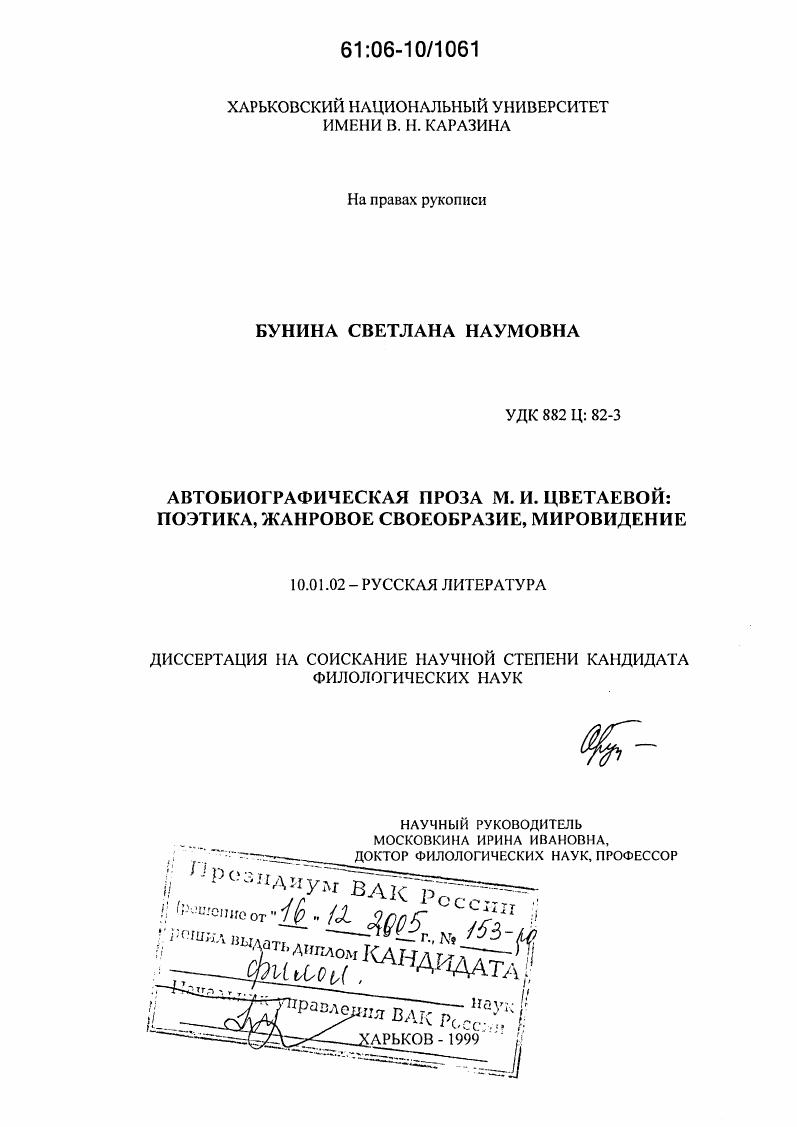
- Автор:
Бунина, Светлана Наумовна
- Шифр специальности:
10.01.02
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
1999
- Место защиты:
Харьков
- Количество страниц:
172 с.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
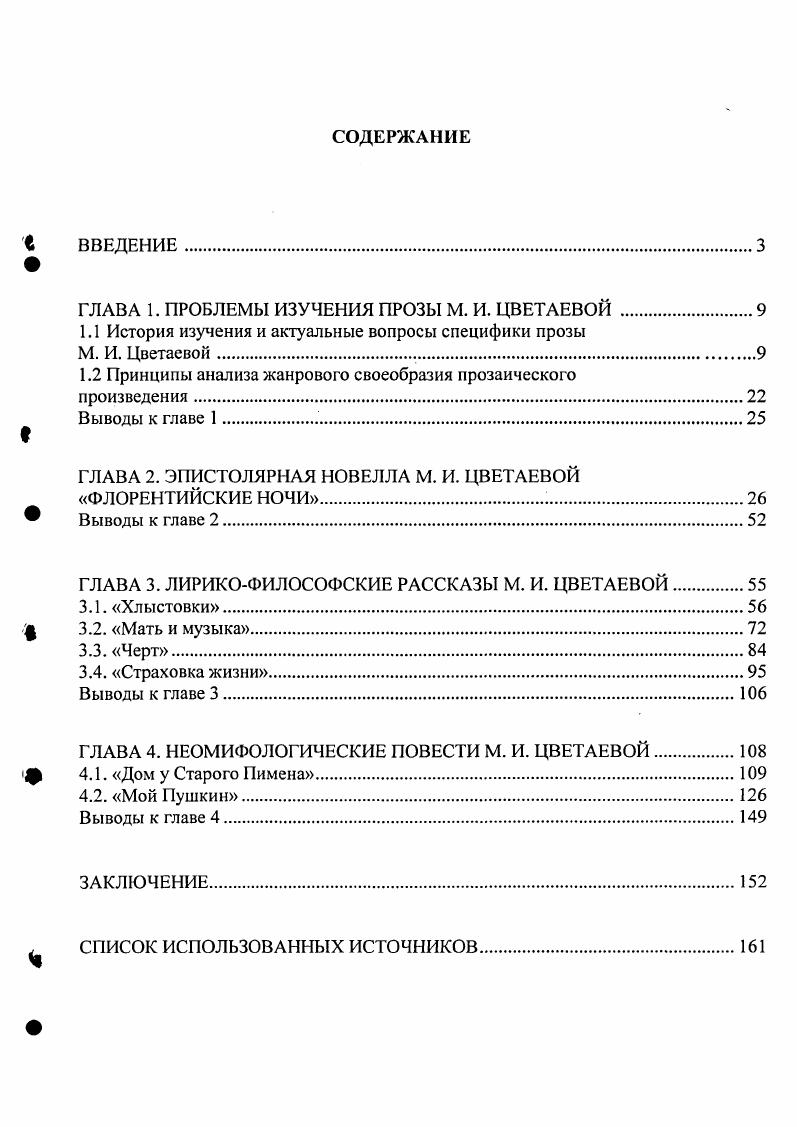
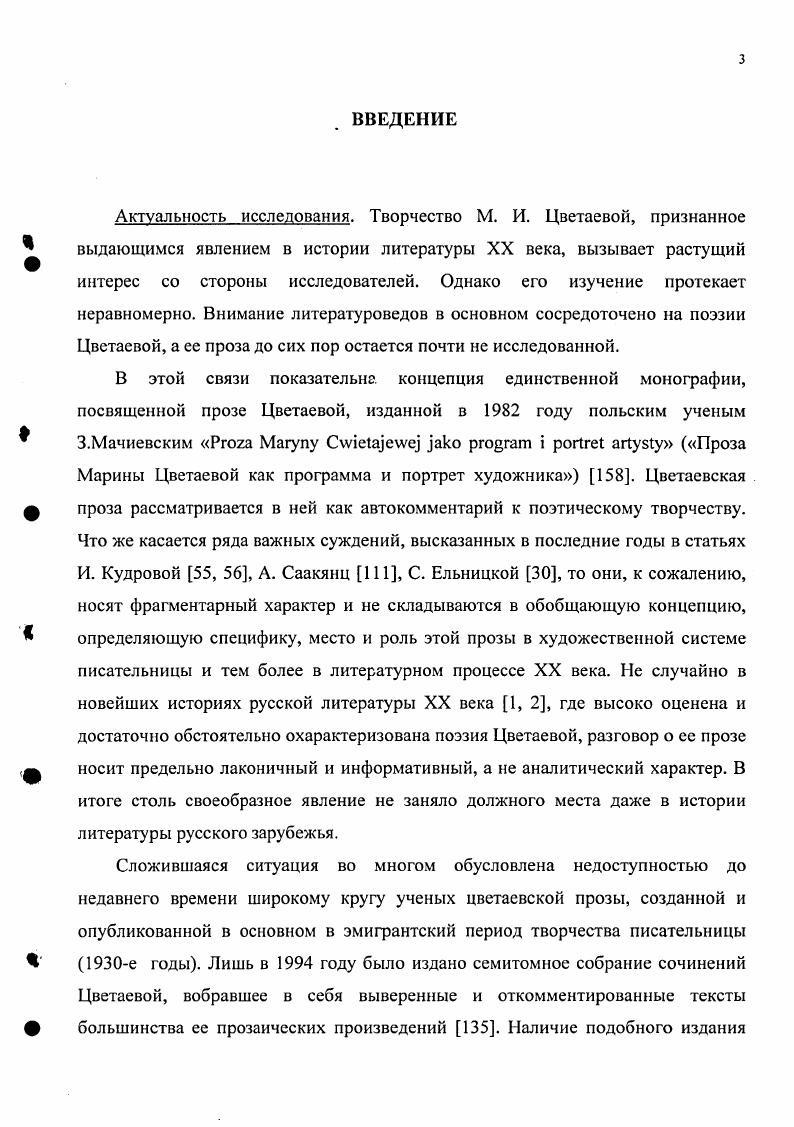
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Структурные особенности современной башкирской поэмы | Киреева, Луиза Рифовна | 2004 |
| Художественное своеобразие поэзии Расула Гамзатова: аспект национально-русского взаимодействия | Алиева, Хадижат Магомедовна | 2012 |
| Творчество Геннадия Айги в контексте проявления эстетики символизма в европейской, русской и чувашской литературе | Анисимова, Екатерина Геннадьевна | 2010 |